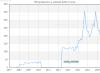Когда Катерине пришло первое за почти шесть лет письмо от отца, она, надо сказать, немало удивилась. Девушка пару минут вертела в руках небольшой конверт, словно не решаясь его открыть, пока, наконец, не схватила решительно нож для бумаги и не вскрыла его.
«Моя дорогая дочь, - писал батюшка (точнее, его писарь: почерк был чужой), - с великой любовью и почтением я передаю Вам свой привет и пылкое отцовское объятие. Мои дела идут хорошо, здоровье также не доставляет никаких хлопот. Расскажите мне, как Вы поживаете? Нужно ли Вам что-то особенное, чего нет у Вас ныне? Знайте, что я - вечный и преданный исполнитель Ваших желаний, и нет для меня большей радости, чем ублажить Вас…»
«Бла-бла-бла, бла-бла-бла…» - морщилась Катерина, торопливо пробегая глазами строчки, из которых буквально сочилась привычная придворная вежливость. Впрочем, как ещё могут общаться практически чужие друг другу люди, кроме как прячась за вежливостью, как за стальной бронёй? Конечно, жаль, что так случилось, но теперь уже ничего не поправишь, хотя стыд за тот скандал, что Катерина устроила ему когда-то, шесть лет назад, невольно и уколол ее на мгновение, но девушка тут же решительно отринула его прочь.
Отец явно написал письмо с какой-то конкретной целью: она не поверит, что в нем внезапно, спустя столько лет, проснулись пылкие чувства. Нужно только выудить эту цель из вежливого студня. «Боже, только бы не замужество, - взмолилась про себя Катерина, - только бы он не обанкротился и не решил поправить свои дела с помощью выгодного брака! Пожалуйста! У него ведь есть и законные дочери!»
«Моя дорогая дочь, могу ли я попросить Вас об услуге? Моей дочери, Вашей сводной сестре, Елизавете, девице семнадцати годов отроду, требуется убежище вне Лондона. К великому сожалению, столица ныне не является для неё приятным местом. Моей голубке нужно поправить здоровье и отдохнуть от светской суеты. Милая Катерина, Вы очень обяжете меня, если согласитесь принять её в своем замке. Елизавета - девушка во всех отношениях приятная и скромная, она не отяготит Вас, напротив, я надеюсь, что её общество будет Вам приятно, как приятно любой образованной девице общество её столь же образованной сверстницы. Ваша сестрица читает на древнегреческом и латыни, знает науки, умело обращается с арфой и ловко держится в седле. Сердце моё наполняется радостью, когда я представляю себе вас вместе, скованных узами нежной девичьей дружбы…»
У Катерины взволнованно ёкнуло сердце.
Всю свою жизнь, все восемнадцать лет, она прожила здесь, в отдалённом замке Брумрок, вдалеке от Лондона и высшего света. Её отец, достопочтенный, очень богатый вельможа по имени Лахлан Хэммильтон, признал её - бастарда от никому не известной служанки-итальяночки - но не пожелал растить её в своём доме в Лондоне и представить её в обществе, тем самым очернив свою репутацию, и потому отправил её сюда, в Брумрок, едва ей исполнился годик. Весь замок и живописные угодья вокруг были в распоряжении и в полной собственности маленькой Катерины (на итальянский манер, в честь матери). Несмотря на свою удалённость от света, Катерина вовсе не тяготилась своим одиночеством. В ее распоряжении был целый штат слуг, с младых ногтей обожающий свою маленькую, но уже властную хозяйку; для бесед об искусствах и науках к её услугам были учителя, которых отец выписывал для нее из разных стран. В детстве батюшка и сам нередко чтил ее визитами: как минимум, трижды или четырежды в месяц, а иногда даже чаще. Он справлялся об её здоровье и успехах в учёбе и, бывало, подолгу ласково говорил с ней; именно благодаря нему Катерина сделалась страстной наездницей и полюбила соколиную охоту. Её любимый сокол, Быстрый, был подарен ей отцом на десятилетие, и Катерина до сих пор души в нём не чаяла.
Однако однажды, когда ей было двенадцать, отец приехал в Брумрок со своей женой, хорошенькой, очень миловидной, невысокой молодой женщиной с красивыми голубыми глазами. Сначала Катерина была холодна с нею, затем сделалась невыносима и, наконец, устроила страшный скандал: кричала, обвиняла их обоих, даже ругалась (общение со слугами не прошло даром: к сожалению, манеры маленькой бастардессы оставляли желать лучшего)… Сейчас она и сама не смогла бы вспомнить, что её так разозлило. Быть может, ей очень хотелось думать, будто она - не просто бастард, результат случайной, ни к чему не обязывающей связи, оставленный исключительно из душевной доброты, а плод настоящей, глубокой и искренней любви, после которой её отец никогда не сможет даже посмотреть на другую… А, быть может, она была обыкновенной отроковицей, испытывающей своеобразную потребность в скандалах. Служанки в тот период нередко получали от нее звонкие оплеухи.
Так или иначе, Катерина рассорилась с отцом, и больше они не общались - до этого момента. Но это было не так важно, куда важнее то, что Катерина очень мало общалась со сверстниками и сверстницами, и была это прислуга и дети прислуги. А теперь к ней ехала светская, столичная девушка, по словам отца, образованная и утонченная…
Катерина нервно сжала руки на груди и, волнуясь, прошлась по комнате - раз, другой… «Если уж я, бастард, получила образование у блестящих умов, то как образована она, законная дочь, выросшая в столице? - пронеслось в ее голове. - Проклятье, она посчитает меня дикаркой! Я не хочу выглядеть перед ней смешной!»
Нахмурившись, Катерина взглянула на себя в зеркало. Как-то сразу и вдруг бросились в глаза все недостатки внешности: грубоватые, резкие черты лица, орлиный нос, далекий от тех хорошеньких носиков, что видела она на полотнах старых мастеров, так же, как орел далёк от голубки, крупные зубы, тяжелая челюсть, придающая ей смутное сходство с кобылой…
Девушка с силой ударила кулаком по колену. Круто изогнутые брови сошлись к переносице, зубы сосредоточенно впились в нижнюю губу.
Конечно, она может отказаться, наверняка Брумрок у отца - не единственный вариант. Но от мысли, что здесь, в ее угрюмой обители, будет красивая (ей почему-то казалось, что непременно красивая), утонченная молодая девушка, с которой они смогут проводить много времени вместе, у Катерины приятно кружилась голова и немели кончики пальцев. Ей хотелось этого… А если она чего-то хочет - она это получает. Очаровать столичную красотку? Да раз плюнуть!.. хоть у нее и нет никакого опыта в этом… совсем… вообще…
Глубокий вздох. Решительный блеск в травянисто-зеленом взгляде.
Чернильница, перо, чистые листы… По этикету нужно прождать пару дней, прежде чем садиться за ответ? Плевать. Стремительные росчерки тонких строчек по бумаге, непослушный каштановый локон, лезущий в рот. Катерина писала конкретно, четко и по делу, соблюдая лишь самый минимум светских приличий. «Я буду рада обществу моей сводной», - и тут девушка замерла в лёгкой растерянности…«сестрицы», - дописала, чуть сильнее, чем нужно надавливая пером на бумагу.
Сестрицы… Ей никого не доводилось так называть…
Грёзы, словно горячая, душистая вода хлынули на неё и затопили безвозвратно. А что, если всё пройдёт хорошо, и они с - как зовут эту девушку? Елизавета? - понравятся друг другу? Они могли бы бродить по окрестным лесам вместе. Катерина знает сотни мест, но они сделаются ещё краше, если разделить их с подругой. Они могли бы долгими стылыми вечерами сидеть у горячей жаровни, спасаясь от сырых холодов, и читать друг другу стихи на древнегреческом; они могли бы встречать рассветы и считать по ночам звёзды… Здесь страшные грозы, Катерина помнит, как боялась их в детстве - быть может, ее сестрица позволит обнять себя, чтобы не было страшно? Или даже, возможно, хотя бы мимолетно, хотя бы в шутливой игре, дотронуться до своих губ?..
Бррр! Катерина резко взметнула густую копну каштановых с золотом кудрей и тут же вцепилась в них тонкими пальцами. Ну что за глупые мысли, ведь ты даже её не видела! Может, она глупа, дурна… Может, ее высылают из Лондона (ради бога, отец, не думаешь же ты, что я поверила, будто сестрице и впрямь «нужно подправить здоровье»?) за разнузданный образ жизни, и в её постели побывало столько мужчин, что и Евклид собьётся со счёта! В конце концов, совершенно незнакомая тебе девица не виновата, что ты, видите ли, давно поняла, что предпочитаешь девушек, успела с этим смириться и теперь сгораешь от одиночества, поскольку та единственная служанка, которая тебе по-настоящему понравилась, испугалась твоих осторожных ухаживаний, уехала и, по слухам, вышла замуж, а больше тебя никто не привлекает. Ты просто встретишь её, как подобает достойной хозяйке… И всё-таки постараешься подружиться. Хотя бы ради того, чтобы у тебя появилась подруга, соответствующая твоему образованию и положению - ведь ты, хоть и бастардесса, но все же дворянка, и общаться исключительно со служанками из крестьянок ниже твоего достоинства. «Надеюсь, я ей… мы друг другу понравимся», - волнуясь, подумала Катерина и решительным движением запечатала конверт.
Ответ от батюшки прибыл вскоре. Опуская вежливые завитушки, сообщалось там, что Елизавета прибудет через неделю.
И всю эту неделю Катерина провела на иголках. От натужного спокойствия («Утихомирься, Рина! Ты ведёшь себя, словно провинциалка, к которой изволила нанести визит королева! Это всего лишь твоя сводная сестра. (Ей отчего-то нравилось звать так Елизавету.) Тебе незачем так волноваться. На самом деле, это её вина, что она так много времени не наносила тебе визитов. Ты не должна расстилаться перед ней!») к лихорадочной деятельности: привести замок в порядок, подготовить для неё покои (самые тёплые, те, где больше всего солнца, с красивым видом на большой, но запущенный сад), приказать привезти побольше различной дичи, прибраться в библиотеке, черт вас дери, как можно было так запустить замок, несчастные свиньи, если к вечеру здесь всё не будет блестеть, я дух из вас выбью! Катерина нервничала, и волнение её быстро перерождалось в гнев. В точности как раньше, несколько лет назад, безропотные служанки терпели звонкие оплеухи. Ей, впрочем, вскоре делалось стыдно за них… Но не слишком. Она и так слишком потворствует этим прохиндеям - стерпят пару пощёчин, не сахарные. Ей так хотелось сделать все в лучшем виде, у неё так колотилось сердце при одной мысли, что скоро, совсем скоро Елизавета приедет, что впору было начать смеяться сама над собой. Ну ради бога, Рина, на что это похоже! Будто жениха встречаешь, а не сестру.
В последний момент - утром того дня, когда должна была приехать Елизавета (несколько её слуг прибыли за пару дней до того с основной частью багажа) - Катерина озаботилась вопросом одежды. Растерянная и злая на себя, она застыла перед распотрошенным шкафом, переводя взгляд с привычного ей мужского костюма на невзрачное коричневое платьишко. Конечно, из бархата, конечно, отороченное мехом, конечно, ненавязчиво украшенное топазами, но всё равно невзрачное - а может, ей так кажется после того, как она увидела, сколько роскошных (всех оттенков зеленого, синего, желтого!) платьев привезли слуги Елизаветы.
Будучи отроковицей и терзаясь незнакомыми ей и пугающими чувствами, которые теперь вызывали в ней хорошенькие девушки, Катерина в какой-то момент наотрез отказалась носить платья и перешла на мужскую одежду (пройдя через настоящую войну со своей старухой-кормилицей и всеми служанками одновременно). Ей чудилось, будто, раз она любит женщин, значит, и душа в ней мужская, а мужской душе требуется мужская одежда. В ней девушке было намного удобнее. Четыре года (начиная с четырнадцати лет) Катерина носила исключительно мужскую одежду, лишь на свои дни рождения, по настоянию кормилицы (та хоть и глупа была безбожно, но Катерина любила её), надевала платье. Теперь у неё осталось всего одно платье, подходящее ей по размеру, и Катерина совершенно не хотела его надевать. Ей казалось, что она будет выглядеть в нём смешно и нелепо, наверняка Елизавета (судя по количеству нарядов, изрядная модница) лишь посмеётся над ней…
«Нет уж, - полыхнуло внутри внезапным упрямством. - Это она ищет у меня убежища. Пусть принимает меня такой, какая я есть. Я надену мужскую одежду. И если она посчитает это смешным или нелепым - её право!»
К тому же, по её мнению, в мужской одежде она выглядела значительно привлекательнее.
Шоссы, рубашка, её любимый, расшитый золотыми цветами, дублет поверх, потеющая - от жары, конечно, жаркое июньское утро, ещё бы тут не вспотеть! - ладонь на рукояти шпаги, прищуренный взгляд, с жадностью вглядывающийся в чистый горизонт - яркий контраст просторной зелёной пустоши на юге от Брумрока (оттуда должна была приехать Елизавета) и высокого, чистого неба над ней. Золотая лента дороги, уводящая вдаль. Топот лошадиных копыт, поднятая пыль… Рыже-золотой всплеск волос на солнце, стремительный галоп миниатюрной хорошенькой лошадки, а верхом на ней…
Катерине показалось, это сама Фрейя вернулась сквозь толщу времён, отринула в сторону беззубого христианского бога, и теперь скачет ей навстречу. Девушка с волосами рыжими, как яркий огненный рассвет, в тёмно-зелёной простенькой амазонке, скакала ей навстречу, а где-то вдалеке волочилась в пыли громоздкая повозка. Долгое время Катерина не могла рассмотреть её лица, но вскоре конь стремительно пронёсся сквозь ворота, и рыжая наездница ловко спрыгнула наземь, не успели конюхи к ней приблизиться. Снова взметнулась волна рыжих, спутанных от скачки волос (с близкого расстояния Рина заметила, что она всё-таки, как подобает леди, не совсем простоволоса: затылок покрывает легкая символическая вуалька) - и совсем рядом к Рине оказалось ее лицо. Бледная кожа словно сияла на солнце. Голубые глаза горели весельем, на щеках горел лихорадочный яркий румянец, а на губах - широкая улыбка… Словно она вся была огнём, сиянием и солнцем.
И она смеялась, глядя на неё, заливистым, раскатистым смехом, в котором не звучал ни нежный ручеёк, ни серебряный колокольчик, но оттого он не делался хуже - напротив, отдавался дрожью по спине, и на её смеющееся лицо хотелось смотреть бесконечно.
«Она смеётся надо мной?! Плевать, смейся вечно, пожалуйста!»
Елизавета с изумлением окинула её взглядом с головы до ног. Катерина заметила, что щёки её вспыхнули ещё ярче. Непринуждённым стремительным жестом она сорвала с себя перчатки и, смеясь, воскликнула:
Так, значит, батюшка обманул меня? Здесь меня поджидала не сестрица, а милый брат?
Катерина смущённо вспыхнула всем телом, хотя щёки её не окрасились румянцем, задохнулась на миг, не зная, что ответить… А затем склонилась в мужском поклоне.
Для Вас, миледи, я согласна быть кем угодно. - Хотелось широко улыбнуться, но девушка стеснялась показать крупные зубы, и потому её губы остались сомкнутыми.
А вот Елизавета вновь заразительно рассмеялась, откинув голову назад.
Елизавета откинула голову назад, так, чтобы прижиматься затылком к обнаженной ключице Катерины. На губах её блуждала задумчивая полуулыбка.
Помнишь нашу первую встречу? - Хрупкие, тонкие пальцы сплелись в пальцами Катерины.
Та мечтательно взглянула на их переплетённые руки. Одинаковой формы: длинные пальцы, узкая кисть, вытянутые овальные ногти - но у Катерины ладонь больше, грубее от упражнений в фехтовании, сильнее, теплее… Белые пальцы Лиззи - словно льдинки в её теплой руке.
Конечно, помню, - негромко прошептала Рина, прижимая «льдинки» к губам. У Лиз всегда холодные руки, и оттого ей кажется, что она постоянно мёрзнет, а это отличный предлог обнимать её чаще и тесней. - Мне показалось - ты похожа на солнце.
Улыбка осветила лицо Елизаветы.
И я тоже была очарована с первого взгляда. В этой рубашке, с растрёпанной каштановой косой, со шпагой, ты была ослепительна… Я подумала, это бог послал мне видение, чтобы искусить… Твои скулы, твои великолепные ноги, боже! А твои сверкающие глаза… Рина, любовь моя, и это меня ты называешь Королевой Мая?! Твои глаза - это и есть май. Ты была в тот миг лучше любого мужчины. В тот миг и во все последующие.
Мимолётный, но пылкий поцелуй коснулся губ Катерины, и та не позволила возлюбленной отстраниться. Поймала пальцами острый подбородок, стиснула сильнее, жадно лаская мягкие губы с чуть различимым привкусом лёгкого яблочного вина… Сладко. И чуть с кислинкой. Именно такой вкус должен быть у Королевы Мая. Проклятье, почему она не умеет легко и непринуждённо, без подготовки, говорить красивые вещи?! Безумно хочется выместить тот жар, что распирает ей грудь, эту горячую благодарность, эту жаркую, болезненную любовь, накатившую с новой силой - а она ничего, ничего не может сказать, может только сжимать её в объятиях и целовать с исступлением.
Губы разомкнулись с мягким чмокающим звуком. Мягкий, чуть-чуть пьяный взгляд голубых глаз ласкал её лицо, а следом за взглядом по пылающей коже Катерины порхали прохладные пальцы. Жаркое дыхание, жаркое, как её волосы, как её сердце, как она сама, жгло её губы.
Думаю, я любила тебя уже тогда… - хрипло пробормотала Лиз. - Любила с первой минуты.
Ещё один горячечный выдох.
Катерина с жадным любопытством вглядывалась в лицо Елизаветы. Та выглядела весёлой, хотя и немного запыхавшейся. Несколько мгновений девушки стояли друг против друга, не зная, что сказать, но затем…
«Несчастная дура!» - яростно укорила себя Катерина и быстро проговорила вслух (её голос звучал несколько прерывисто, и нередко она делала паузы, словно теряя слова в глубине смеющегося, искристого голубого взгляда):
Должно быть, Вы устали с дороги, моя леди! Мои слуги приготовили для Вас лучшие покои. Надеюсь, Вы найдёте их… Уютными.
Зачем ты берёшь её за руки?! Это неприлично, ты лезешь в её личное пространство, перестань!..
…Елизавета не стала высвобождать рук, хотя по лицу её и промелькнула тень лёгкого недоумения, за которое Катерина немедленно жестоко наказала себя мысленной оплеухой. Но пальцы её остались послушно лежать в шероховатых ладонях Катерины. Удивительно тонкие, такие же длинные, как у неё самой, с вытянутыми овальными ноготками… Различие состояло в том, что руки Елизаветы были чуточку меньше, кожа её была фарфорово-белой (Катерина невольно залюбовалась тем, как она сияет на солнце: словно мрамор, обращённый в шёлк), и ещё - её руки были холодными. Словно и впрямь мрамор… Почему? Как она могла замёрзнуть в такой зной?.. Катерина машинально стиснула узкие ладони сильнее, пристально вглядываясь в чужие глаза - и встречая лёгкую, чуть смущённую полуулыбку.
Спасибо, леди Катерина. - Пальцы сжались на руках Катерины в ответ. - Я и впрямь немного устала и буду рада переодеться с дороги. Дайте мне пару часов, но затем я хотела бы осмотреть замок, где мне предстоит жить, и, если Вы не будете против, прогуляться. Я не люблю сидеть взаперти.
Я тоже, - живо откликнулась Катерина. Её пальцы, соприкасающиеся с руками Елизаветы, горели прохладным огнём. - И я… буду рада… составить Вам компанию.
Елизавета мягко улыбнулась в ответ, и Катерина заметила, что от улыбки у неё на щеках, несмотря на юный возраст, появляются полукружья морщинок - по три на каждой щеке. Почему-то ей показалось, что это очень мило, и захотелось дотронуться до её кожи. С виду она казалась фарфоровой, гладкой и холодной, словно мрамор, но появление этих морщинок натолкнуло Рину на мысль, что она нежная и мягкая, как бархат… А может быть, шёлк?.. У неё красивый рот: нежно-розовый, несколько широкий - оттого и морщинки - с выступающей верхней губой… Девушка заворожённо следила, как движутся губы Елизаветы, пока она говорит:
Спасибо, моя леди, Вы очень любезны.
Силой вынудив себя очнуться от гипноза, Катерина властно взмахнула узкой ладонью, подзывая ближайшего служку. Подошёл Оливер, мужчина лет тридцати, с каштановыми, уже редеющими волосами и добродушным взглядом собачонки. Катерина коротко отдала приказание: проводить, помочь разместиться, выполнять любой каприз… Хотя вслух прозвучало только «Проводи леди Елизавету и помоги ей разместиться», но последнее подразумевал строгий, жёсткий взгляд молодой хозяйки Брумрока.
Девушки распрощались поклонами (Катерина вновь использовала мужской), и Елизавета удалилась. Бастардесса проводила её глазами, отметив, что двигается она с какой-то особой, порывистой, непринуждённой грацией.
Чтобы отвлечься от навязчиво волнующих её мыслей о гостье, Катерина отправилась на кухню, чтобы отдать приказания насчёт обеда и ужина. В голове её вертелись глупые, пожалуй, даже крамольные желания и мысли. Ей хотелось видеть Елизавету. Смотреть, как она располагается. С каким лицом она осмотрела отведённые ей покои? Понравился ли ей вид из окна? На чём она задержала внимание, а по чему скользнула равнодушным взглядом? Что показалось ей красивым, а что нет? Достаточно ли для неё просторно, а может, она предпочитает уют? Понравятся ли ей цвета ковров и гобеленов, мягкой ли покажется кровать? «Обо всём этом я непременно расспрошу её», - успокаивала себя Катерина. - Как полагается гостеприимной хозяйке… Проклятье, я ведь могла проводить её сама и увидеть всё воочию! Конечно, это не совсем принято, я ведь не крестьянка, но ведь и встречать гостью в мужском костюме тоже не принято… Проклятье!»
А чем она занимается сейчас? Какие книги привезла с собой? Пару дней назад, когда приехала основная часть её вещей, Катерине ужасно хотелось всё рассмотреть по-подробнее, но, конечно, она не стала, устыдившись своей бестактности - и сейчас жалела об упущенной возможности.
Когда все приказания об обеде и ужине были отданы, Катерина, снедаемая волнением, отправилась в фехтовальный зал. Она занималась фехтованием с раннего детства. Конечно, у неё не было и не могло быть официального учителя: отец никогда не согласился бы прислать ей такового, хотя Катерина и горячо просила об этом в ту пору, когда их отношения ещё не испортились (вернее будет сказать - прервались), а она была наивным ребёнком. Но зато её учитель французского языка оказался из обедневшего дворянского рода. Когда-то давно он прокутил всё состояние, и отец Катерины, по старой дружбе, предоставил ему и кров, и жалованье. После долгих уговоров и занятий тайком месье де Клермон сдался и стал учить её. Катерина подозревала, что далеко не так уж хороша в фехтовании, как могла бы быть, но она упражнялась со шпагой ежедневно - и теперь наносила удары и без того иссечённому деревянному манекену. Это успокаивало её, помогало забыть о волнующих мыслях… Об Елизавете с её смеющимся взглядом и улыбкой, похожей на солнце… О роскошных рыжих волосах, о бледных фарфоровых пальчиках в её горячей ладони… О сотнях вопросов к ней, о жарком и жадном интересе, о горячечном волнении перед ней, о собственной слабости…
С глухим рычанием Катерина изо всей силы всадила шпагу в манекен и раздраженно дёрнула выпавшие из толстой каштановой косы пряди. Что за глупость! Это волнение, это жадное внимание к Елизавете, желание быть с ней рядом… Катерина прекрасно осознавала, на что похожа совокупность всех этих чувств. Но это же глупость! Любовь с первого взгляда, как в любовных поэмах из Франции?.. Девушка покачала головой. Только там такое и возможно. Она более чем уверена, что будь с ней рядом больше девушек, она не реагировала бы так на Елизавету.
Конечно, всё объяснимо. Долгое время она была одна. Варилась в собственных мыслях, в желании любить. Бесконечно думала о ней ещё до её приезда. Не видела никого хоть отдалённо привлекательного после того случая с Энн. А теперь - яркая, красивая, рыжеволосая, оглушающая задорным смехом, похожая на солнце в её угрюмой обители! Как же тут не…
Влюбиться?..
Только-только Катерина остыла после яростной тренировки - и снова и голова, и всё тело полыхнули огнём. С глухим стоном девушка осела на подвернувшийся поблизости табурет и снова вцепилась обеими руками в свои несчастные волосы. Влюбиться. С первого взгляда. Как в чёртовых французских поэмах. В женщину, которую она видела не дольше нескольких минут. Влюбиться до сердца, колотящегося где-то во рту, и бессильно отнимающихся пальцев, до мурашек и жгучего желания видеть её, касаться её, слышать её… Вновь глухое рычание, дрожащие ладони, с силой стиснувшиеся вокруг пылающей головы. Проклятье, Катерина, успокойся! Возьми себя в руки, у тебя всегда была железная воля! Нужно придумать, что делать со всем этим, как побороть этот жар внутри… От него не зажжёшь камин или свечу, его можно только погасить нещадно - или…
Глаза девушки лихорадочно заблестели, дрожащие пальцы принялись нервно накручивать один локон за другим, затем беспокойно застучали по колену. Что, если… Попробовать, только попробовать?.. Маскируясь под радушную хозяйку и радующуюся воссоединению любящую сестру. Касаться её, как сестра, как подруга. Проводить с ней время - а с кем же ещё ей его проводить? Здесь они будут предоставлены друг другу, и если проявить должную меру обаяния - она сумеет завоевать её сердце. Хотя бы как подруга. А потом… «Ради шутки, Елизавета! Просто представь, что я мужчина - и поцелуй меня…»
Рина яростно замотала головой, прогоняя наваждение. Несмотря на огонь, полыхнувший во всём её теле, от этих мыслей сделалось легче. По крайней мере, теперь у неё есть название для всех тех чувств, что пробудила в ней рыжеволосая гостья, есть чёткая цель, а вскорости - Катерина знала свой живой ум, похожий, по словам её учителей, на ум хорошего полководца - будет и план.
Глаза девушки загорелись живым, решительным пламенем. Спина распрямилась, подбородок взлетел вверх.
Она сможет. Она - Катерина Хэммильтон, и если она чего-то хочет - она это получает!
- А о чём в то время думала ты?
Катерина мягко улыбалась, склонив голову набок. Тьма вокруг, разрушаемая лишь красноватыми отблесками из камина, делала её глаза темнее, словно густые лесные сумерки, в которых прячется загадочный добрый народец. Задумчиво улыбаясь, Елизавета провела подушечками пальцев по её лицу.
Ты тоже взволновала меня… Даже слишком сильно. Я помню, как сидела возле окна, обхватив себя руками, и думала, думала… Я видела сверху, как ты шагаешь по двору. Решительная и стремительная. Моя орлица, - тихо рассмеявшись, Лиз порывисто чмокнула её в нос.
Внутри Катерины взметнулось детское желание смущённо спросить, не из-за формы ли это её носа, но его тут же перехлестнуло смущение и радость. В детстве кормилица называла её Лошадка Кэт - а теперь появилась Елизавета, ослепительная, нежная, любящая Елизавета с влажным розовым ртом и тесными объятиями, и она зовёт её орлицей… Что может быть прекраснее? Катерина стиснула возлюбленную в объятиях, возвращая лёгкий поцелуй поцелуем грубоватым и жарким, и притянула Лиз к себе так, чтобы она лежала щекой на её плече. Ей нравилось чувствовать это.
Говорят, это столица - колыбель соблазнов… - Елизавета тихо засмеялась, чуть запрокидывая голову вверх, так, чтобы смотреть в потолок. - А для меня ею стал Брумрок. Я не знала, что мне делать. Ты ужасно, ужасно понравилась мне… Красивая, как Артемида, стремительная, властная… Я обратила внимание, как ты говоришь со слугами. Словно возможность, что тебя не послушаются, даже не рассматривается.
Катерина легонько повела свободным плечом. О своём властном характере она знала. И Елизавета словно решила укорить её за самодовольство. Клац! - щёлкнули у её уха острые зубы.
Про себя я назвала тебя тираншей!.. и мне это понравилось.
Девушки искренне рассмеялись, глаза у них обоих весело блестели. Катерине захотелось отпустить пошловатую шутку, какие она иногда позволяла себе, будучи в игривом настроении, но Елизавета тем временем продолжала вновь мягким, мечтательным голосом, и скабрезность тут же вылетела у Рины из головы.
Мне хотелось всё узнать о тебе. Видеть тебя рядом… Ты не представляешь, какое это наслаждение. - Нежные пальцы мягко перебирали её собственные. У Катерины сладко ныло в груди. - Я металась между одним и другим. «Почему бы и нет?» - спрашивала себя, ведь я не связана никакими клятвами, а греховность таких союзов… Что ж, я давно приняла в себе этот грех. И в то же время я боялась быть отвергнутой. Боялась тебе не понравиться… - Тихо смеясь, на сей раз совсем не так весело, как обычно, Елизавета закрыла лицо ладонью. - Я ведь ужасно некрасива.
Катерина строго нахмурилась.
Ещё раз так скажешь - я буду всю ночь петь тебе серенады! А ты знаешь, что мне медведь на ухо наступил! А потом привёл друзей, и они устроили там силид*!
Елизавета раскатисто расхохоталась, вскинула ладони беззащитным жестом:
Нет, ох, нет, пожалуйста!.. в общем, я решила вести себя, как ни в чём ни бывало. Наслаждаться твоим обществом, - с дразнящими нотками произнесла она, проводя прохладными пальцами по линии подбородка Катерины. В ответ на это лёгкое касание по её телу пробежала дрожь, захотелось запрокинуть голову, словно кошке, подставляясь под её ласку. - Ты ужасно, ужасно понравилась мне.
Спустя полтора часа (они показались Катерине долгими, как целая вечность) к хозяйке Брумрока прибежала служанка Елизаветы: хорошенькая миниатюрная смугляночка, востроглазая, подвижная, кудрявая - прелесть! Её батюшка наверняка не преминул бы зажать её где-нибудь в углу, да и сама горячая сердцем Катерина, особенно - будь она мужчиной… особенно - не будь в замке Елизаветы… Девушка коротко, отрывисто кивнула в ответ на «Хозяйка желает Вас видеть, моя леди» и, едва служаночка убежала - юбка надулась пузырём, облепила красивые, словно Микеланджело вылепленные икры - норовисто встряхнула волосами. Странная мысль вдруг промелькнула в её голове, странное ощущение. Кольнуло, разбежалось по телу вместе с кровью, колючее, досадное, злое… Полезли в голову глупые мысли…
Катерина сердито щёлкнула пальцами и скрестила руки на груди, словно удерживая внутри беспокойное сердце. Это было глупо, это было ужасно глупо, но она… Ревновала! Елизавету - к этой впервые ею увиденной служаночке!
Хорошенькая. Явно - живая. Раз Елизавета отправила именно её - значит, она ближе всего к хозяйке, не спрашивайте, откуда в голове у Катерины эта мысль! «Чёрт… - девушка закусила губы. - Я делаюсь форменной дурой… Успокойся! Она тебя ждёт».
Эта мысль на несколько минут вернула Катерине безмятежность. Она её ждёт… Она сама, сама её позвала… Хотя разум, этот едкий противник романтики, и подкидывал объяснения, что Елизавета попросту не знает замка и вполне обоснованно опасается заблудиться - Катерина откидывала мысли прочь и спешила навстречу своей рыжеволосой любви.
Елизавета встретила её приветливо, хотя и казалась отчего-то немного смущённой и задумчивой. Ещё недавно такая солнечная и задорная, сейчас её улыбка казалась намного мягче, в ней чувствовалась некая осторожность и даже, пожалуй, застенчивость. А Катерина-то уже решила, что застенчивой эта огненная девица в зеленой амазонке быть не умеет в принципе!
Вам понравились покои, моя леди?
Очень! - искренне ответила Елизавета. - Здесь столько солнца…
Говоря, она медленно шла навстречу Катерине - и остановилась в потоке солнечного света из огромного, распахнутого сейчас настежь, чтобы впустить в прохладу замка теплый летний воздух, окна. Мягкое золото окутало её, зажгло нежное пламя в длинных волосах, засияло на рыжих ресницах… У Катерины сладко перехватило дыхание. Елизавета походила на кошку: как кошка жмурилась, как кошка подставляла солнцу лицо… Под яркими лучами и без того светлые брови, казалось, исчезали совсем, но Катерине это казалось даже трогательным. Хотелось провести пальцем по их изгибу, да что там - очертить пальцами каждую её черту: и крутые скулы, и лоб, и брови, и прямой нос, и губы, где верхняя выступала чуть больше нижней…
Как кружится голова… Словно под гипнозом, Катерина заворожённо шагнула к возлюбленной (возлюбленной… странное слово, непривычно примерять его на себя, но от непривычки оно делается только слаще), прямо в золотой поток. Солнце золотыми нитями заблестело на каштановых волосах, золотыми искрами заиграло в зелёном взгляде…
- Мне всегда казалось, что ты красивее меня, - шептала Елизавета, осыпая лицо и шею Катерины поцелуями; прихватывала губами смуглую кожу, оставляя влажные розовые следы - маленькая собственница. Рина в ответ сжимала ладонями её бёдра, - На солнце я выцветаю, а ты делаешься только краше…
Солнце завидует тебе, - Катерина говорила прерывисто, хрипло, отчаянно пытаясь сдержать стоны: ей было отчего-то стыдно, что она, всегда такая жесткая и упрямая, бессильной лужицей растекается под лаской прохладных рук. - Ты превосходишь его сиянием… Поэтому… Ох!
Откуда эта дьяволица знает, как дотронуться до неё, чтобы лишить разума?..
Обычно громкий голос Елизаветы сделался тише, когда она столкнулась с глазами Катерины. Грубоватые ладони хозяйки Брумрока вновь обхватили узкие кисти. Преодолев секундную нерешительность («Можно ли?.. Чёрт, да что в этом такого, ты же её сестра!»), Катерина мягко расслабила пальцы, скользнула ими меж пальцев Елизаветы, сжала… Елизавета встретила её тёплой, немного растерянной полуулыбкой: словно она немного недоумевала, что Катерина делает, но, в общем, была не против.
Показалось ли? Прохладные шелковистые подушечки нежно тронули костяшки её рук…
Здесь солнце будет светить для Вас, сколько Вы пожелаете, - тихо произнесла Катерина.
Лёгкий пламень румянца пробежал по лицу Елизаветы, чтобы тут же благополучно исчезнуть и смениться дразнящей, весёлой улыбкой и смеющимся блеском в глазах.
А если пойдёт дождь? Ведь Вы не можете гарантировать.
Тогда мы переждём дождь в замке, а затем выглянет солнце. - Катерина мягко убрала прядь с её лица. Щека под её осторожными пальцами была тёплой, нежно-розовой. - А теперь, Елизавета, идёмте обедать. Надеюсь, Вы любите оленину?
Обожаю.
Обед прошёл непринуждённо. Обе девушки проголодались, поэтому говорили немного. Катерине хотелось послушать об Елизавете, но совершенно неожиданно она поймала себя на том, что сама рассказывает о себе: о том, как бегала в детстве на кухню и мешалась под ногами у бедолаги-повара, и как этот толстопузый добряк не смел ей слова сказать, только смеялся да пачкал её мукой в медвежьих объятиях: «Леди Кэтрин, - он единственный звал девочку на английский манер, - ну что Вы из меня душу вопросами вынимаете, ну дайте поработать!»; как однажды она решила приготовить своей старушке-кормилице пирог с черникой и, естественно, сожгла всё до угольков, но не была бы она Катериной Хэммильтон, если бы не убила на этот чёртов пирог неделю, но всё-таки сделала всё в лучшем виде! Елизавета так внимательно слушала и так искренне, от всей души хохотала, когда девушка рассказывала ей про пирог… А потом по-мужски пихнула её в плечо и скорчила мимолетную гримаску:
Надеюсь, Вы им меня угостите?
Нет, нет, нет! - захохотала Катерина, впервые позабыв о своих несчастных зубах. - Ради бога, Лиз, - и впервые назвав её так, - я не готова повторить этот кулинарный подвиг!
Хотя, конечно, если она попросит, Катерина не только приготовит черничный пирог, но и, охваченная энтузиазмом, кинется осваивать все рецепты, какие только попадутся ей под руку, а от этого могут пострадать ни в чём не повинные люди.
После обеда девушки отправились исследовать замок. Катерина немного волновалась, боясь, что ей не понравится, но внешне старалась этого не показывать. С видом сдержанной, но горделивой хозяйки она показывала Елизавете комнату за комнатой. Девушки сами не заметили, сколько различных историй рассказали друг другу за время недлинной прогулки.
За этим гобеленом я пряталась от слуг… Мы с сыном садовника, Томом, играли в прятки. Вот этот гобелен, с Гиневерой, был моим любимым местом, чтобы спрятаться.
Теперь ей казалось, что Гиневера должна была выглядеть как Елизавета - такая же рыжеволосая, с такой же сияющей фарфоровой кожей. Такая смогла бы свести с ума всех королей. Ведь не зря же рыжие волосы считаются признаком ведьмы?.. Пожалуй, еще семьдесят лет назад Елизавету сожгли бы на костре. Катерине захотелось крепко стиснуть её в объятиях, защищая, когда она подумала об этом. А ведь могут и сейчас! Рыжеволосая, красивая - чем не ведьма!
Ведьма-королева тем временем с любопытством заглянула за гобелен и, вынырнув, одарила её улыбкой.
Кажется, там уютно… Если бы мы с тобой были маленькими, я бы предложила забраться туда вдвоём и рассказывать друг другу истории.
От мысли о подобном времяпровождении на губах Катерины вспыхнула улыбка, а щеки окрасились румянцем. Она вдруг ярко представила себе это: теснота выемки за стеной, прохлада, уничтожаемая жаром их тел и дыхания, шепот Елизаветы, рассказывающий историю, ее спутанные рыжие волосы, упавшие на ткань ее платья… У девушки на миг закружилась голова. Она уже представляла, каким сладостным адом обернулось бы для нее взросление, будь рядом Лиз. Лиз… Звонкое «Л» срывалось в мягкое шипящее «с-с», и ее имя тоже казалось соблазном… Проклятье, ведь даже сглотнуть нельзя пересохшим горлом! Шея открыта, она сразу увидит!
Истории… Истории можно рассказывать в любом месте, - хрипло проговорила Катерина, беря ее ладонь, - расскажите мне, Елизавета. Лиз…
Лиз… - девушка улыбнулась, склоняя голову вбок. - А еще Бет и Бетти, Лиззи, Элиза и Эльза, Бесси и Бесс… Так странно: столько имен, а Лиз меня назвали только Вы.
Секунду девушки смотрели друг другу в глаза, сами не зная, отчего вдруг замерли, не в силах пошевелиться.
Скажите… - осторожно промолвила Елизавета, протягивая к ней руку. - Вы позволите мне звать Вас каким-нибудь сокращением? Скажем… Кет?
В детстве меня называли Лошадка-Кэт… - смущенно хмыкнула Катерина.
Лиз нахмурила светлые брови.
Что? Какая глупость! - воскликнула она сердито. - Я не стану звать Вас так! Только Кет… Кошка-Кет.
Кошачьи зеленые глаза Катерины сверкнули особенно ярко.
- Твои глаза всегда казались мне колдовскими. Как лес, в котором хочется заблудиться. Заснуть на мягком мху и проснуться в стране фей. Как изумруды, притягивающие внутренним блеском. Когда ты смотрела на меня, мне казалось, я готова выполнить любое твое желание, только смотри еще. У твоего взгляда, Катерина, есть особая властная сила. Я уверена, ты смогла бы покорить города одним только взглядом.
Неспешно шагая рядом по коридору, Елизавета рассказывала о своих прозвищах: как звали её в детстве, как в отрочестве, как называл ее отец, как слуги, подружки, уродливый Робби, который думал, что раз он сын богатого герцога - значит, можно не знать ничего о приличиях… Елизавета морщилась, рассказывая о нем. «Каков подлец! - резко бросила Катерина. - Будь я мужчиной, я бы вызвала его на дуэль!» Взметнулись вверх рыжеватые ресницы, изумленно сверкнул чистый лазурный взгляд: правда?! - Катерина ответила решительным кивком, крепко стиснув ладонь на рукояти шпаги. Успев составить некое представление о Лиз, она думала, что та рассмеется и поддразнит ее шуткой, но девушка вдруг вспыхнула и опустила глаза, стыдливая, словно монашка. Катерине от этого на миг сделалось совестно самой, но желание схватить ее за плечи, прижать к себе, говорить, говорить, говорить жаркие и искренние слова, признаваться в собственных чувствах, нежных, как первые ирисы, и обжигающих, как белтейнский костер, говорить, целовать ее, говорить, целовать, целовать, говорить, целовать, целовать больше, чем говорить, говорить пылкими поцелуями…
Конечно, она этого не сделала, но фантазия, словно мед, растеклась по ее жилам. Тогда Катерина еще не знала, сколько жарких поцелуев сорвет с губ Елизаветы в этих узких холодных коридорах; не знала, как сладко, когда эти прохладные ладони нежно обхватывают твое пылающее лицо, когда пьяная поволока застилает ясную голубизну взгляда; когда она вскрикивает низким грудным голосом и прижимается ближе…
Сейчас Катерина знает только, что ее Елизавета, оказывается, мерзлячка.
Здесь всегда так холодно? - прозвучало немного неловко после длительного молчания. - От стен веет сыростью… Наверное, зимой здесь невыносимо?
Нет, нет, - поспешно заверила ее Катерина. -…по крайней мере, не так плохо, как могло бы быть… Хотя, возможно, это я привыкла к местному климату, но, Лиз, - девушка порывисто стиснула ее ладонь, - обещаю, я сделаю все, чтобы Вы не замерзли.
Прозвучало двояко… Более, чем двояко… Катерина хотела было броситься объяснять: глинтвейн, одеяла, теплые меховые накидки! - но подумала, что выставит себя еще большей дурой и вместо этого вдруг обескураживающе улыбнулась.
И потом: ведь сейчас лето. За стенами замка - солнце… Вы говорили, что тоскуете по нему, так почему бы…
Лиз искренне улыбнулась.
Катерина не помнила, как они бежали по коридорам замка, как пронеслись через двор, но отчетливо врезалась в память яркая картинка: изумрудный пустырь, покров трав до самого горизонта, зеленое платье Лиз - и она сама, бегущая навстречу яркому солнечному свету, ее пламенные волосы, сияющие в горячих лучах. Она смеется низким раскатистым смехом, отбрасывает с плеч длинные пряди, оборачивается - и улыбка вспыхивает ярче, чем солнце, и ее глаза сияют - сияют для нее, для нее, Катерины, и она протягивает ей руку.
- Мы так быстро сдружились, правда, Кет? - с мягкой улыбкой произнесла Елизавета, скользя по предплечью Катерины теплой ладонью. - Впрочем, у нас не было выбора. Мы были предоставлены друг другу, общались ежедневно… ежеминутно…
Ты думаешь - только от этого?
Нет. - Лиз с легкой улыбкой прижала к губам ее узкую ладонь. Катерина заметила, как чуть задрожали опущенные ресницы и морщинка пролегла меж бровей. - Я думаю, потому что мы изначально были предназначены друг для друга.
Кет любит ее еще и за то, что она никогда не вынуждает ее говорить поэтичные вещи. Она знает, что Катерина не мастер красивых слов и часто теряется в подобных случаях - только смотрит бессильно-влюбленным взглядом. И потому Елизавета не вынуждает ее говорить слишком много. Прежде чем пауза сделалась неловкой, она непринужденно улыбнулась и едва уловимо подмигнула любимой:
Но, чтобы осознать это, нам потребовалось не меньше месяца, так? Впрочем, мы не очень скучали.
Как можно скучать в твоем обществе, любовь моя? - рассмеялась Катерина. - Ты сделалась солнцем Брумрока… - Ее ладонь нежно коснулась чужой щеки, и Лиз тепло улыбнулась в ответ, прижимаясь теснее к ее руке.
Мне нравилось быть им для тебя. Ты принимала любую мою затею. Помнишь, как мы лазили на дерево? Ты забралась легко и непринужденно, а я разодрала амазонку и чуть было не повисла с сука, зацепившись юбкой!
Просто в детстве я была разбойницей, а ты - милой принцессой, - смеясь, ответила Катерина. - Впрочем, и в тебе тоже зачастую мелькало что-то… Разбойное.
Ну что ты! - Елизавета, смеясь, сделала невинное ангельское личико и молитвенно сложила узкие ладони. - Я - само приличие и спокойствие!
Да-да. Конечно. Особенно когда просила научить себя открывать бутылку ножом и зубами.
Изначально это умела ты! Это ты меня испортила! Ты меня соблазнила!
Какие открытия, Лиззи! - хохоча, Катерина перекатилась так, чтобы Лиззи оказалась под ней. Яркие зеленые глаза сверкнули дьявольским пламенем. - Так, значит, я стала твоим… дьяволом-искусителем?..
У Катерины был низковатый, даже грубоватый для девушки голос, и в такие мгновения он делался еще ниже, наполняясь волнующей хрипотцой, от которой бледная кожа Лиз вспыхивала, как от пламени. Завороженно глядя в ее глаза, девушка медленно провела прохладной ладонью по чужой горячей щеке, нежно очертила подушечками пальцев точеную скулу…
Да… Моим змием-искусителем…
Катерина с хриплым вздохом жадно прижалась к ее губам.
Их дружба была искренней и честной, открытой и эмоциональной. Им было хорошо друг с другом. Каждый вечер Катерина засыпала с улыбкой на губах: она знала, что завтра снова увидит свою Королеву Мая, услышит, как она смеется, обсудит с ней Катулла и прочитает в лицах пару легенд о короле Артуре, которые нравятся им обеим. И от этого хорошо было на сердце. Но где-то глубоко внутри Катерина осознавала, что так долго продолжаться не может. Да, она говорила сама себе, что ей достаточно будет просто дружбы и легких, в шутку сорванных поцелуев, но каждый раз, когда Елизавета прижималась к ней чуть теснее положенного, каждый раз, когда она рассказывала о своем кузене или поклоннике, каждый раз, когда Катерина просто видела ее и жгуче желала поцеловать, но не могла позволить себе ничего больше легкого дружеского прикосновения к щеке или губам - она понимала, что солгала самой себе. Она хочет быть с этой - восхитительной, прекрасной, невероятной - женщиной. Просыпаться с ней вместе. Называть ее своей. Целовать - долго, до головокружения, не отстраняясь спустя пару мгновений с чувством, будто ее губы посыпали перцем. Говорить, что любит ее, и не добавлять сразу же стыдливо: «Как подругу, конечно же…». Любить ее каждую минуту своей жизни.
Катерина долго не решалась признаться, хотя ей того мучительно хотелось.
Елизавета растягивается на кровати, откидывает голову назад, показывая белоснежное горло. Улыбается ей, глядя из-под ресниц, сдувает с лица рыжую прядку. «О чем ты так задумалась, мой ангел?»
«О том, что люблю тебя», - мысленно отвечает Катерина.
Елизавета проголодалась и за ужином ест быстро, как мужчина, облизывает пальцы, жадно впивается зубами в мясо. В этом есть что-то до странности притягательное, и еще Катерина готова задохнуться от столь же странной нежности. Моя девочка голодна, ей вкусно, она довольно улыбается и смотрит на нее радостным взглядом - разве этого недостаточно для счастья? «Что ты так смотришь? - Елизавета смущается и на миг опускает глаза. - Я такая неприличная?»
«Нет, - думает Катерина, - ты такая любимая…»
Елизавета приходит к ней в ночной полутьме. Она зябко дрожит и кажется такой хрупкой и худенькой несмотря на высокий рост, что у Катерины все сжимается внутри от жаркой нежности. Ее королева испугалась грозы и просится переночевать с ней. Кровать у Катерины настолько громадная, что они спокойно могут проспать всю ночь, ни разу не коснувшись друг друга, но это было бы грешно - упускать такую возможность. Хотя, на самом деле, грешно прижиматься к ней всю ночь и до последнего стараться не заснуть, чтобы подольше ощущать ее - мягкую, пахнущую солнцем и цветами - в своих объятиях.
«Я люблю тебя, я люблю тебя! - отчаянно звенит внутри. - Боже, я так люблю тебя, Лиззи, Лиз, Элиза, Элизабет, Бетти, Бесс, я обожаю тебя, я, я…»
Девушка невнятно вздыхает сквозь сон и легонько сжимает ее руку. Катерина зажмуривается и даже задерживает дыхание, пытаясь не совершить ничего, о чем потом пожалеет.
Тогда она была в нескольких шагах от того, чтобы признаться, любовь уже теснила ей грудь, рвалась наружу жаркими словами и дрожью в отчаянно сжимающихся на простыне пальцах - но призналась она не в те жаркие и стыдные минуты, а много позже, когда они сидели возле жаровни, наслаждаясь вечерним уютным теплом.
Елизавета слабо улыбалась, опустив голову ей на плечо. В задумчивом взгляде отражались оранжевые языки пламени. Ровно и спокойно поднимались и опускались изящные плечи. Катерина с легкостью могла представить их себе: тонкий, изящный контур, белоснежная кожа, отливающая от огня мягкой рыжиной и медом, тонкий силуэт ключиц… Катерина с шумным вздохом уткнулась лицом в ее волосы - и поняла, что больше не может. Признание упало в ушко Елизаветы, как созревшая груша с дерева.
Я люблю тебя, Лиз…
Девушка замерла на миг, и все внутри у Катерины похолодело. Даже губы Лиз не двигались: остановилось дыхание. Но мгновение это оказалось настолько коротким, что Катерина не успела даже толком запаниковать, хотя страх уже закопошился внутри, готовясь роем ос налететь на ее обожженный разум.
Я тоже люблю тебя, Кет, - наконец (секунда показалась вечностью) спокойно произнесла Лиз.
Катерина резко отстранилась и схватила ее за плечи.
Нет! - жарко воскликнула она. - Нет, Лиз, я имею в виду не это!
Она не могла больше! Ее изумленные глаза, ее чуть приоткрытые в какой-то застывшей улыбке губы, прядки ее волос, ее запах, ее голос, она сама все, боже, она не могла больше!
С глухим стоном Катерина прижалась к ее губам.
Это было горячо. Горячо, сладко и влажно, и так волнующе, что, казалось, все внутри переворачивает, и все тело пробирает сладкая дрожь. «Елизавета… - отдавалось внутри. - Моя Елизавета. Моя…»
Как сладко было прихватить на миг ее нижнюю губу острыми зубами и замереть, задохнувшись от собственной наглости, и…
Почувствовать на плечах ее руки?!
Задыхаясь, Катерина отстранилась столь же порывисто, как и прижалась к ней. Глаза ее взволнованно горели, неровное, жаркое дыхание вырывалось из груди, и дрожали покрасневшие губы.
Лиз… - бессильно прошептала девушка.
Слова куда-то терялись, рассыпались песком из дрожащих рук. Как Катерина ни силилась - она ничего не могла придумать и ненавидела сама себя за собственное бессилие. Только сжимались на руках Елизаветы дрожащие руки в безмолвной мольбе: не уходи, пожалуйста, останься! Можешь посмеяться надо мной, можешь сделать вид, что ничего этого не было, обратить все в шутку, как ты это умеешь, но не покидай меня! Проклятье, ничего не прочтешь в любимых глазах за пеленой растерянного тумана. Что там, в глубине? Страх? Смех? Ненависть?..
Мгновения, казалось, растянулись в часы. Так казалось Катерине, хотя на деле прошло не больше нескольких секунд, прежде чем ее собственная Ата обхватила ее плечи и вернула ей пламенный, обжигающий поцелуй. Боже, как она целовала! Жарко и крепко, требовательно, впиваясь в губы зубами, зарываясь в ее волосы холодными дрожащими руками! Катерина задрожала сама, когда пальцы Елизаветы легко пробежали по ее загривку и вернулись вверх, чтобы снова зарыться в каштановые локоны и с каким-то особым отчаянием без толики горечи стиснуть ее затылок. Катерине казалось: она горит в пламени столь же ярком, как ее волосы. А Лиз, едва отстранившись, тут же прижалась к ее губам снова, а потом снова, и снова… Смешивалось дыхание, ненароком соприкасались, не целуя, влажные губы… Обеих девушек трясло. Катерина с жадностью прижимала возлюбленную к себе, дрожащие пальцы лихорадочно заскользили по спине, запутались в рыжих прядях. Она касалась ее спины и волос и прежде, но все это было не то. Она ласкала подругу, теперь она ласкает женщину, свою женщину, и она послушно прогибается в ее руках и смотрит лихорадочно блестящими, влажными голубыми глазами. Жаркое дыхание жгло Катерине шею, как огни Белтейна, и от Елизаветы дурманно пахло прогретой на солнце травой. Катерина задыхалась в этом аромате и, видит бог, она согласилась бы навечно остаться в этом мгновении, утопая в солнечном запахе, но в то же время то ли жгучая тревога, то ли желание лучше распробовать на вкус нежданное счастье вынуждали ее сжимать пылающими ладонями ее плечи.
Ты… Ты правда?.. Лиз, скажи! Я не… не хочу так, если ты…
Ради шутки?! Нет, нет, Кет, клянусь, я…
Правда? Правда?
Я с первой минуты…
И я тоже… Мой ангел, мое величество… Королева Мая… Елизавета…
Ты… Боже, что же ты делаешь, ох, Кет!
Я никогда больше тебя не отпущу! - полыхнули зеленые глаза, ожесточенно сжались ладони.
Не надо… Не отпускай…
Останешься со мной? Скажи, останешься? Не уедешь? Никогда, Лиз?.. - И тут же, отчаянно, как будто и впрямь станет удерживать силой: - Я не дам тебе уехать, ты слышишь?! Ты теперь моя!
Я уже осталась, любимая…
Катерина широко, пьяно улыбнулась и стиснула Лиз в объятиях, пряча лицо в волосах. Она была счастлива.
И следующие дни были самыми счастливыми в жизни Катерины. Много-много до одури счастливых, радостных дней.
Как и прежде, они с Елизаветой ни на шаг не отходили друг от друга и, как и прежде, им было вдвоем интересно. Но теперь зачастую в разговорах повисала пауза: они смотрели друг на друга блестящими взволнованными глазами, наступала звонкая тишина, а потом - жаркие, хаотичные поцелуи, прерывистый смех, тесные объятия, горячечный шепот: признания, снова смех, сотни нежных слов! Катерина и не думала, что, оказывается, знает их так много: сердце мое, душа моя, мой ангел, моя любовь, моя королева, моя принцесса… моя, моя! Катерину порой трясло: так ей хотелось, чтобы Елизавета принадлежала ей одной. Чтобы даже солнце не ласкало ее настырными лучами. А сколько нежных слов говорила ей Лиз в ответ? Смеялась и дразнила, обжигала горячим дыханием и потемневшим до темной синевы взглядом, нежно проводила по щеке прохладной рукой… Она была такой разной, ее Елизавета, и какой бы она ни была - Катерина без памяти любила ее.
Они стремились к уединению, не желая смущать слуг двусмысленным общением. Подолгу гуляли вдвоем вокруг замка, там, где их никто не увидит. Елизавета научила ее плести венки и с удовольствием украшала ее волосы золотыми примулами. Катерина помнила, как нежно вплетались в ее пряди чуть прохладные, чуткие пальцы, как ее Королева Мая склонялась над ней, чуть-чуть затаив дыхание, и смотрела так завороженно, что Кет не верила: неужели она и впрямь смотрит на нее? На нее?! Она - воплощение солнца, ее прекрасная рыжая королева - так смотрит на нее, обыкновенную смертную?.. У Катерины перехватывало дыхание, и нередко она не выдерживала: бросалась обнимать ее, дрожащими ладонями лаская прохладу ее нежных щек, и шеи, и плеч, и рук; и ее губы послушно раскрывались под ее слишком жестким напором, и Кет видела, как дрожали ее светлые ресницы, и в исступлении прижимала к себе сильнее, не зная, как еще сказать, что она любит ее, любит, безумно! И так благодарна: ей, господу (хотя можно ли благодарить его за ту, что сподвигла Кет на грех перед ним же?), судьбе - за то, что она появилась в ее мрачном замке. За ее любовь, такую открытую, искреннюю; за ее улыбку и крепкие объятия, за то, что прячет лицо в ее волосах, за то, что, когда у Катерины болит голова - она укладывает ее себе на колени и долго терпеливо ласкает холодными руками пылающие виски, за… Слишком долго было бы перечислять. Катерина была благодарна за нее всю: от солнечной макушки до кончиков аккуратных, как из молочного льда выточенных пальчиков на ногах, до последней чуть проступающей под тонкой кожей голубоватой жилки, до последнего пламенного завитка.
Девушки порой смеялись, что они вовсе не похожи на влюбленных из поэм. Вместо того, чтобы сутками ворковать, обнявшись, они говорили обо всем на свете, даже в тот памятный день, когда их отношения перевернулись. С горящими глазами обсуждали литературу и музыку, дразнили друг друга, пытаясь научить чему-то: Катерина давала Лиз уроки фехтования, а та, в свою очередь, пыталась научить ее играть на арфе. Все безуспешно: у Кет не было музыкального слуха, а у Лиз ни малейшего навыка владения шпагой, и уже поздно приучаться. Обычно они обменивались беззлобными остротами, изобретая друг другу забавные прозвища, но однажды Катерина порывисто сжала ладони любимой и жадно прильнула к ним губами.
Тебе не нужно владеть шпагой, любовь моя! - Ее глаза ярко горели. - Я смогу защитить тебя от любого врага! А если нет… - Девушка замялась на миг: она знала, что не так уж хорошо владеет шпагой, как думает порой в минуты заслуженной гордости. - Если нет… Умру, сражаясь, но до тебя никто не доберется!
Елизавета испуганно вздрогнула.
Не говори так! Здесь нет никаких врагов… - Нежное касание к щеке, робко подрагивающие пальцы, очерчивающие ее скулу. - Прошу тебя, Кет. Мне невыносима мысль, что ты умрешь. Мне делается так страшно, что я готова… О, прости, я страшно богохульствую, но… - Она зажмурилась на мгновение. - Но я готова пойти за тобой, как Орфей, и вернуть назад! Или остаться там… Там, куда бы мы ни попали после… Только с тобой…
Кет порывисто прижала ее к себе. Какой тонкой, какой хрупкой показалась она ей в это мгновение! Прохладная кожа лба, голубые глаза, полные мольбы и решимости, трепещущие плечи…
Я не оставлю тебя… - хрипло прошептала Катерина. - Обещаю.
Она знала, что когда-нибудь они обе погибнут, и их тела сгниют в подземной темноте. Но сначала…
Елизавета, лихо, как деревенская девка, до одури соблазнительная в своей беззаботности, отплясывающая на лугу; Елизавета, скачущая с ней наперегонки по склону холма (о, они постоянно во всем соревновались, две неугомонные дьяволицы!); Елизавета, хриплым, срывающимся от волнения голосом читающая Сафо; Елизавета, подставляющая солнцу лицо; Елизавета в ее объятиях, во тьме, нагая; Елизавета…
…но сначала они поживут.
Одним прекрасным дождливым августовским вечером Катерина чувствовала себя живой, любящей и любимой настолько, что хотелось смеяться, петь и кричать одновременно, и все это так звонко, чтобы крик со свистом, как шпага, разрезал на куски тишину и вспорол небо, отдавшись там веселым и яростным эхом, чтобы крик этот, и плач, и смех достигли ушей Бога и сказали ему: смотри, Бог, я здесь, я - Катерина, и она - Елизавета, и мы грешницы, слышишь, Бог, мы грешницы оттого, что любим друг друга; оттого, что ее рыжие волосы, ее тонкие руки мне важней, чем все твои псалмы и молитвы; смотри, Бог, слушай, Бог, наш смех, наши юные, смешные голоса; слушай, смотри, и не смей отнимать ее у меня, потому что для меня нет ничего дороже, потому что смотреть, как она танцует, слышать, как она смеется и отвечать на зов ее голубых глаз - вот, что для меня свято, вот, что для меня важно!
Богохульство, конечно. Богохульство от счастья. Потому что Елизавета, ее Елизавета, смеется и танцует на мокрой поляне, босая, с намокшим подолом зеленого платья, ослепительная, мокрая… Она танцует какой-то дикий танец, какой, должно быть, разучивают только на балах у королевы фей. Взлетают тонкие руки, слышатся звонкие хлопки. Она встряхивает растрепанной головой, и блестящие крошечные капельки разлетаются от волос. Она легко переступает узкими, нежными ступнями, и Катерина чуть было не вскрикивает от страстного желания коснуться их: пальцами, губами, языком…
«Распутница! - жарко устыдилась себя Катерина, и жара было больше, чем стыда. - Это ты, ты, Лиз, делаешь из меня распутницу…»
С диким огнем в зелени ярких глаз Катерина сжимала чужие кисти. Притягивала к себе, вжимая тесней, тесней, в жарком исступлении. Изгибалась сама, как дикая серна, подставляясь под шальной, искрящийся дождь. Вновь прижимала Елизавету к себе, не позволяя отстраниться надолго. Дождь усиливал запах ее волос, и он бил в разум, как раскаленный молот, выбивал оттуда все до единой мысли.
Катерина не помнила, как Лиз вдруг оказалась прижатой к ней спиной. Как ее руки скользнули ей на живот, стиснулись там, скрестились в запястьях крепким запором: не отпущу, не отдам! - и скомкали пальцами ткань платья, царапая острыми ноготками. Елизавета не сопротивлялась. Откинула голову Кет на плечо, прикрыла чуть трепещущие, влажные ресницы, а рот напротив чуть приоткрылся - влажный, алый…
Сделалось тяжело дышать. Медленными стали движения, налились чувственностью, как плод наливается тяжелым сладким соком. Жаркое дыхание Лиз обжигало шею. Покорно, нежно двигалось ее тело в такт музыке дождя, которую слышали они обе. Она прижималась к ней, мокрая, нереальная в своей притягательности, как фея, и в то же время живая, телесная, осязаемая - как человеческая женщина. Ее женщина. И, казалось, сейчас она должна была быть еще прохладнее, чем обычно, но нет! От нее дышало жаром, и Катерине хотелось обжечься.
Воспоминания о дальнейшем доносились до нее серией ярких вспышек. Слишком сладко все было, чтобы можно было помнить детально.
Елизавета… Обнаженная… Белая-белая, словно сияющий снег… Высокая, худая, с длинными стройными ногами, с лебединой шеей, с тонким и четким арбисом изящных ключиц, боже, как красива она была! Блестела на коже россыпь дождевых капель: прозрачных, крупных. Катерина с жадностью сцеловывала их, отчаянно ревнуя свою фею к дождю, и глухо всхлипывала от слишком сильного удовольствия.
Нежный излом запястья, настолько трогательно-хрупкий, что перехватило дыхание.
Трепещущие нежные веки, прикрытые в истоме, и тут же, напротив, глаза широко распахнутые, обжигающие ее ярким темным блеском. Нежное, бесстыдное движение бедер навстречу. Холодные пальцы, о, эти холодные пальцы, господи! Где они только ни побывали, эти с ума сводящие, осторожные, чуткие пальцы!
Нежное движение, каким она обвила ее шею, прижала к себе сильнее, словно прося согреть, и Катерина щедро делилась теплом, и Лиз таяла в ее объятиях, словно весенний лед, она, которая всегда казалась ей пламенем.
Запрокинутая голова, подставленная шея… Елизавета, такая громкая и веселая в обычной жизни, здесь, на мягком покрове из травы и мха, оказалась тихоней: шумно вздыхала, замирала, глядя взглядом настолько преданным, что больно спирало все внутри, запрокидывала голову в моменты особенного удовольствия и изредка закусывала губу, но Катерина готова была продать душу дьяволу, лишь бы видеть эти тихие знаки наслаждения чаще.
Она не знала, что делать: ласкать ли трепетно-нежно, касаясь робко, как нежным перышком - или завладевать ею целиком, жечь жадной лаской нежные плечи, стискивать запястья до синяков, не позволяя даже пошевелиться?.. Оставалось лишь метаться из крайности в крайность и задыхаться от острой любви…
А после они осознали себя насквозь промокшими и очень, очень замерзшими за время дождя. Смущенно смеясь, собрались и пошли к позабытой сторожке: их убежищу во время таких прогулок. Они часто задерживались в лесу, не желая возвращаться «к цивилизации», но такую форму их нежелание приобрело впервые.
В сторожке они вновь любили друг друга: нежно, чувственно, долго… Катерина помнила запах смолы и древесины, и скошенного сена, и снова дождя, и ржаного хлеба. Елизавета целовала долго и крепко, тесно обхватив ладонями ее лицо, с нескрываемым наслаждением покрывая поцелуями ее плечи. «Я люблю твои губы, - прошептала она, легко дотрагиваясь до них кончиками пальцев. В ее глазах что-то влажно дрожало. - Я люблю тебя, Кет».
Только затем они успокоились. Старая кровать, сразу несколько одеял, дождь, продолжающий шелестеть за окном. Немного хотелось есть и еще больше пить, но в домике, как назло, не было даже остатков пищи. Можно было бы пойти домой, но не хотелось вставать. Обессиленные, счастливые, девушки лежали вместе, сплетаясь в тесном объятии.
Кет… - тонкие фарфоровые пальцы вдруг споткнулись на пути по ее плечу. Катерина мгновенно насторожилась. - Помнишь, приехав сюда, я отказалась говорить, по какой причине меня выслали из Лондона?
Катерина осторожно кивнула, пытливо вглядываясь в глаза Елизаветы; сильнее стиснула ее руку, вымещая волнение…
На самом деле, меня выслали, потому что застали со служанкой. - Елизавета говорила решительно, но Катерина, будучи сильно прижатой к ней, чувствовала ее дрожь… И вскоре задрожала сама. От распирающего хохота.
Мой бог! - Хохоча, Катерина ударила ее подушкой. - Почему ты сразу не сказала, черт побери?! Я бы затащила тебя в постель уже в первый же день!
Что-о?! - Ответный удар, смеющиеся голубые глаза… - Так я нужна тебе только для этого?!
Катерина не поняла шутки. Смешалась, смутилась, поспешно стиснула ее плечи, испуганно затараторила:
Нет, нет, Лиззи, любовь моя, я не это имела в виду, я…
Чмок! Смеющиеся ярко-розовый от поцелуев рот, нежные руки, прижавшие ее сильнее к своей владелице, жаркое дыхание куда-то в щеку.
Я шучу, - мягко выдохнула Елизавета ей на ухо и нежно поцеловала прямо под вьющимся каштановым локоном. - Прости, что не сказала, я боялась, что ты осудишь меня…
Какие волшебные, какие чарующие у нее были глаза, особенно сейчас, когда они отчего-то увлажнились, а рыжеватые ресницы над ними трепетали… У Катерины отнимался язык, и сердце проваливалось куда-то в желудок. Все внутри сжималось, а она в ответ сжимала в объятиях Елизавету. От ощущения ее обнаженной груди, прижавшейся к ее собственной, ей казалось, будто она находится в плену демона-соблазнителя. Рыжеволосого, нежного, фарфорового, с заразительным громким хохотом и улыбкой, сияющей ярче солнца.
Я любила тебя с первой минуты, - негромко прошептала Катерина, обхватив ладонями любимое лицо. - Я не осужу тебя никогда. Обещаю.
Ее личное солнце полыхнуло с губ Елизаветы в ответ.
- Я была безмерно счастлива в тот день, - негромко прошептала Елизавета, уткнувшись носом ей в шею, будто кошка. Руки вокруг талии Катерины сжались с особенной силой, словно она старалась удержать ее рядом, не позволить ей исчезнуть. - Настолько же, насколько несчастна впоследствии.
Катерина шумно вздохнула и бессильно уткнулась лицом ей в волосы. Отчего-то хотелось извиниться, хотя, казалось бы, за что? Разве она виновата? Так могло случиться с каждой! Но Елизавета была несчастна, ей было страшно, а Катерина ничего так не хотела, как видеть ее счастливой ежеминутно.
Сейчас ведь все хорошо, - со слабой улыбкой произнесла Кет вслух. А что еще она могла сказать? - Я выздоровела, и теперь буду осторожней.
Да. Но тогда мне было безумно страшно.
Елизавета любила эту женщину.
Эту восхитительную женщину.
Она любила то, как Кет смеется: громко, раскатисто, откинув голову назад; она любила ее низковатый, немного не по-женски жесткий голос; она обожала ее манеру одеваться и держать себя, ее роскошные волосы, ее слова, ее горячее, смелое сердце.
Кет могла бесстрашно полезть в самый глубокий овраг, чтобы достать цветок, который ей понравился; однажды она пошла вечером на болота чтобы набрать для нее клюквы, потому что Елизавета обмолвилась ненароком, что хотела бы попробовать. Она танцевала так, что захватывало дух - столько в ней было почти дикарской пластики. Она не была похожа ни на одну женщину, которую Елизавета видела в прошлом. Даже в движениях ее было что-то отличное от изящества столичных барышень, как бы прекрасно они ни танцевали - Катерина танцевала лучше. Она лучше всех, кого Елизавета знала, даже лучше мужчин, скакала верхом - по-мужски, потому что кругом не было никого, кто мог бы упрекнуть ее за это - и когда Лиз видела ее, стремительную и прекрасную, с волной каштановых кудрей по ветру и горящими глазами, она казалась ей воплощением какой-нибудь дикой, воинственной богини.
Она ослепительно улыбалась и дерзко, гордо вздергивала подбородок. Она знала наизусть множество стихов, и Елизавета безумно любила засыпать под ее низкий, чуть монотонный голос (Катерина не актерствовала без надобности, но одним напряжением, чуть сменившимся тоном, еле заметным акцентом передавала все). Она писала изящным и точным слогом, а сама искренне-стыдливо говорила, что косноязычна; она прижимала Елизавету к себе так тесно, что становилось трудно дышать, а от взгляда ее у Лиз все замирало внутри, все мысли покидали голову, и только одна билась, как пойманная птаха, отчаянно, беззаветно: «Я люблю тебя».
Девушка считала, что их встреча была предначертана свыше, и ей нужно было пройти через позор и разлуку с отцом, чтобы встретить ту, в чьих объятиях она позабудет весь мир. Иногда она так и называла свою Кошечку (хотя, на самом деле, Катерина не походила на кошку, если только на лесную хищницу, рысь или пуму, но никак не на домашнюю киску) - моя судьба. Видя ее рядом, касаясь ее рук, любя ее душой и телом, Елизавета была по-настоящему счастлива. Хотя ее жизнь складывалась, на самом деле, солнечно, ей казалось, что прежде, до встречи с Кет, она не была счастлива никогда. Она готова была всю жизнь прожить здесь, с ней рядом, и единственным страхом, оставшимся где-то в глубине ее души было - потерять свое зеленоглазое, порывистое и властное счастье.
Кет казалась Елизавете сильнейшим человеком на земле. В ней чувствовался стальной стержень, и не только: в том числе, она была сильна и телесно. У нее всегда была горячая кожа и здоровый персиковый румянец на великолепных точеных скулах; под ее кожей Лиз чувствовала силу мягко перекатывающихся мышц.
И когда после памятной ночи в лесу Кет слегла с жестокой лихорадкой - для Елизаветы это было как если бы заболела Афина или Артемида, а она была бы простой женщиной античной эпохи, видящей, как мечется в жару и бреду богиня.
Лиз не отходила от Кет ни на минуту. Сама меняла прохладные компрессы на пылающем лбу, прижимала к ее губам - этим чувственным, властным губам, которые сейчас казались бледными и иссохшими - губку, пропитанную целебным отваром, чтобы хотя бы несколько капель попали в ее измученный рот; нежно скользила прохладными руками по ее пылающей коже, силясь облегчить терзающий любимую девушку жар; подолгу расчесывала ей, полубессознательной волосы, и замирала от боли и сладости, когда она порой сжимала ее ладонь. Кажется, Катерина чувствовала ее близость. По крайней мере, Лиз очень хотелось на это надеяться.
Возвращайся, моя прекрасная, - шептала она почти со слезами, прижимаясь к ее горячему лбу своим холодным. - Прошу тебя… Возвращайся…
О, если бы поцелуями можно было изгнать болезнь! Кет была бы здорова уже через двадцать минут - так много Елизавета целовала ее, лаской и нежностью стараясь облегчить страдания. Катерина тяжело дышала, не приходя в себя, ее грудь неровно вздымалась, тонкое, острое лицо исказило страданием. Иногда она начинала метаться и бредить, и тогда Елизавете тяжело было удержать ее на месте. Иногда Кет вскрикивала ее имя…
Елизавета ненавидела себя за это. Это из-за нее Катерина слегла с горячкой! Тогда, в лесу, Кет оберегала ее: укрывала собственным плащом, сама оставшись без защиты, отдала ей свое одеяло, когда она продрогла, и она, Лиз, ничего не сделала, чтобы ее остановить, не подумала о ней! Счастье, как ты эгоистично! Елизавета в ожесточении кусала губы и расцарапывала себе запястья и ладони так, что делалось по-настоящему больно, и темная кровь подолгу сочилась из царапин, пачкая тонкую, светлую кожу. «Я не вынесу, если она… она умрет… Пускай косвенно, но это случится (если, если, если это случится!) из-за меня…»
Хотелось заплакать, но Лиз не позволяла себе расклеиваться: это означало на полчаса, а то и больше лишить Катерину внимания. Она торопливо утирала слезы и пылко целовала чужое лицо, сжимала тонкие руки и вновь начинала заботиться о ней. Терпеливо меняла компресс и одежду, чтобы, когда она очнется, ей не пришлось морщиться, глядя в зеркало: Елизавета помнила, как важно для Катерины всегда достойно и сильно выглядеть.
Это были страшные дни для Елизаветы, но самой страшной стала ночь кризиса. За несколько часов до нее Катерине сделалось лучше. Она даже пришла в сознание и немного поговорила с ней, первым делом хрипло выдохнув: «Ты в порядке?..» Елизавета старалась выглядеть беззаботно, не выдать, что почти не спала с тех пор, как любимая заболела, и как сильно за нее боится. Она только и позволила себе, что:
Я очень испугалась за тебя… - Лиз осторожно отвела со щеки любимой непокорную прядку. В глазах ее светилась болезненная глухая нежность, но она всем своим видом старалась показать, что… - Но теперь все будет хорошо, Кет. Доктор сказал - ты идешь на поправку.
Ничего такого доктор не говорил, но ей так хотелось ободрить Катерину, выглядящую невероятно измученной.
Лиз не стала вынуждать ее говорить слишком много и поспешно перехватила инициативу в разговоре.
Мы можем немного прогуляться, тебе будет полезен свежий воздух! А еще, если захочешь, я буду читать тебе сказки, играть для тебя и петь баллады. Долго-долго, пока ты не уснешь или не прогонишь меня…
Катерине не хватило силы, чтобы ответить вслух, и она лишь сжала ее ладонь и едва заметно покачала головой. «Я не прогоню». Елизавета неслышно вздрогнула и порывисто наклонилась тронуть поцелуем ее губы, так же, без слов, говоря: «Я люблю тебя, Кет». Слабо улыбнувшись, Кет толкнула лбом ее щеку, будто и вправду была кошкой.
А потом я… Я… Я могу вышить для тебя красивую рубашку… Сплести для тебя венок… Я могу рассказывать тебе стихи… Я прикажу открыть все окна настежь, чтобы ты могла полюбоваться солнечным светом… Мы… Я…
Она говорила и говорила, поначалу громко, чтобы выдворить из комнаты пахнущую болезнью тишь, затем все мягче, глуше, пока голос не упал до шепота. Катерина, казалось, тонула в этом шепоте, куталась в него, как в пушистую шаль. Она продолжала сжимать ее руку и слабо улыбаться в ответ на предложения, которые нравились ей больше всего, пока, наконец, ее пальцы не обмякли на одеяле. Девушка заснула.
Лиз долго сидела с ней рядом, не решаясь высвободить ладонь и любуясь заострившимся, но по-прежнему прекрасным лицом. Она говорила так много, что сама поверила в собственные сказки; позабыла, что неожиданное, беспричинное улучшение состояния свидетельствует о том, что скоро будет кризис.
И кризис наступил.
Сперва Катерина спала спокойно, но затем сон обратился в тяжкое забытье. Девушка металась по мокрым скомканным простыням; словно судороги пробегали по ее лицу, стискивали ее пальцы. Она хватала воздух воспаленными губами, из ее груди вырывались хриплые, бессвязные слова, она дергалась на кровати так, словно хотела кого-то поймать…
Елизавета… - хрипела она, и тщетно Лиз сжимала ее в объятиях и осыпала поцелуями лицо. Находясь во власти лихорадки, Катерина ее не слышала. - Елизавета… Любовь… моя… Елизавета…
Я здесь, я здесь, - повторяла Лиз терпеливо, гладила лицо Катерины ледяными ладонями. - Ты слышишь?.. Я здесь…
Не беги так быстро… Лиз… Лиз!
Только когда Елизавета от отчаяния крепко целовала ее, девушка затихала и пару часов спала безмятежно, но затем все начиналось заново. Елизавету мелко трясло от страха. Хотелось молиться, но разве бог услышит молитвы грешницы? Ей казалось, что сейчас или Катерина, или она погибнут: Катерина не могла вырваться из-под власти своих кошмаров, Лиз сгорала от вины и давящего ужаса. Ее Катерина, прекрасная, нежная Кет может погибнуть! И она не может сделать ничего - только сидеть с ней рядом, кутать ее в одеяло, пытаться успокоить в припадках горячечного бреда…
Елизавета… Лиз… Остановись, не беги так… Лиз!
Я здесь, здесь, здесь! Пожалуйста, поверь мне, я здесь!
Елизавета…
Казалось, ночные часы не текут, как река - скорее, их приходится ворочать, как тяжелые камни. Полночь - Катерина комкает рукой несчастную простынь; час - Катерина в кровь кусает губы и дергается на кровати, словно в судорогах; два - ее кожа настолько горячая, что можно обжечься; три - она кажется истаявшей восковой куклой; четыре - она затихает, но Лиз все равно не отходит от нее ни на мгновение…
- Мне было так страшно тогда… Прости, прости меня, я не должна говорить этого! - Елизавета с отчаянием шлепнула себя по губам. - Тебе было намного хуже!
Катерина молча стиснула ее в объятиях так, что сперло дыхание, и уткнулась лицом ей в шею. Как выразить то, что она чувствует на самом деле: жаркое, почти больное в своей силе, благодарное, нежное - как?! А она скользит ладонью по ее волосам, что-то шепчет у виска, нежно-невнятное, слабо трется носом о щеку, сплетает с ней чуть-чуть дрожащие пальцы…
Ну как же?..
Взошло солнце - и ночные кошмары исчезли.
Катерина вновь забылась сном, но на сей раз спокойным и долгим. Она почти не шевелилась, спала себе, уткнувшись лицом в подушку, измученная долгой борьбой, но, в конце концов, вышедшая победительницей. Елизавета стояла на коленях около ее кровати, уткнувшись лицом в чуть теплую ладонь, и дремала так. Через пару часов, когда она проснулась, сильно болела спина, но разве это было важно? Катерина спала мирно и спокойно, лицо ее разгладилось, затаенное страдание исчезло из заострившихся черт. Елизавета измученно улыбнулась, осторожно укрывая ее получше, и рухнула в кресло. Теперь она знала, что может поспать спокойно.
Однажды, спустя несколько дней, когда Катерина уже почти полностью реабилитировалась и вовсю рвалась в зал для тренировок или хотя бы на долгую пешую прогулку, Лиз осторожно спросила:
Катерина, скажи… Когда ты была больна - что тебе снилось? - Она сжала ее ладонь, тревожно заглядывая в глаза. - Ты звала меня, и мое сердце истекало кровью, потому что я не могла тебе помочь.
Ты помогала! - тут же возразила Кет и наградила ее порывистым поцелуем. Глаза ее жарко блестели. - Ты целовала и обнимала меня, и я чувствовала, что ты рядом, потому что там, во сне… - Она облизнула пересохшие губы и нервно сжала пальцами ткань платья. - Ты убегала. Все дальше и дальше, и я все гналась за тобой, но не могла поймать…
Елизавета негромко всхлипнула, не выдержав, и порывисто стиснула возлюбленную в объятиях, осыпала ее лицо чередой жарких поцелуев. Что же она за человек, почему самая любимая, самая ненаглядная на свете женщина страдает из-за нее даже во сне?! Каким-то отдаленным кусочком разума Лиз понимала, что не виновата, как она может быть виновата в чужих снах?! Но пускай косвенно - но Катерине было из-за нее больно…
Кет… - Дрожащие пальцы коснулись ее щеки. Влажно блестящий взгляд - чужих глаз. - Кет, любовь моя, клянусь, я никогда не убегу от тебя! Я всегда позволю тебе догнать! Я всегда, всегда, ты слышишь?! буду с тобой!
Голос Катерины внезапно сделался хриплым. Она закусила губы, словно собиралась плакать. Стиснула ее плечи, вжала в себя так, что на миг сделалось больно, но Елизавета все равно прильнула к ней только сильнее.
Ты пообещала… Я не тянула тебя за язык, ты пообещала сама!
Елизавета хрипло рассмеялась и обожгла ее губы порывистым поцелуем.
Осторожные, нежные пальцы ласково прошлись по загривку, зарылись в рыжесть ее волос.
Елизавета… - негромкий хрипловатый шепот. - Скажи… Твое обещание - оно все еще в силе? Спустя все эти годы?
Нет, - улыбнулся лукавый эльф. - Ведь ты уже поймала меня, Катерина, поймала навсегда. Держи крепко и никогда не отпускай.
Ты попросила сама!
Тайные истории
Через три года после смерти и похорон Елизаветы по распоряжению короля Якова I ее тело перенесли из первоначального места упокоения, в центральной гробнице Генриха VII в Вестминстерском аббатстве, в северный придел. Елизавету перезахоронили рядом с ее сестрой и соперницей Марией Тюдор. В то же время Яков распорядился воздвигнуть надгробие в южном приделе для своей матери, Марии Стюарт, чье тело тогда же перенесли из собора в Питерборо. Надгробие Марии Стюарт поместили за надгробием леди Маргариты Бофорт, матери Генриха VII, и перед памятником леди Маргариты Дуглас, графини Леннокс, дочери Генриха VII и бабки Якова по отцу. Тем самым Яков подтверждал законность прав своей матери на английскую корону и закреплял ее династию как средство легитимизации своего собственного права на престолонаследие. Елизавета и Мария Тюдор, обе бездетные, оказались изолированы от линии престолонаследия.
При жизни Елизаветы она сама и ее приближенные скрупулезно сохраняли ее публичный образ, но после ее смерти все нарушилось. Хотя Яков заказал величественный памятник Елизавете в память ее достижений, он был намеренно меньше и дешевле, чем памятник, который он приказал воздвигнуть своей матери, великой сопернице Елизаветы. Фигура королевы на гробнице Елизаветы была вырезана в мраморе, лицо, скорее всего, скопировали с посмертной статуи. «Маску юности», которую всю жизнь так старалась сохранить Елизавета, убрали, и королева предстала такой, какой и была в поздние годы. Теперь изображения Елизаветы, ее тела и ее памяти, стали публичной собственностью, которой можно было свободно распоряжаться и оскорблять в угоду новым политическим реалиям.
В дни и недели после смерти Елизаветы в продажу поступили поэмы, памфлеты, стихи и панегирики «для плебеев», не только восхваляющие королеву и ее победы, но и описывающие ее в виде разлагающегося трупа или в виде нарушенной девственности, чьим любовником стала смерть. В своей поэме «На смерть Делии» (Atropolion Delion) Томас Ньютон спрашивает фрейлин: «Почему вы позволили смерти проникнуть в ее покои?» – как будто смерть была нежеланным поклонником. Грустные стихи Ньютона живо описывают могилу Елизаветы, сравнивая ее с «дворцом», где «жадные черви»-придворные проникают в «ее обнаженное тело». И на портретах, свободных от суровой елизаветинской цензуры, также начал проступать совершенно иной образ Глорианы. Портрет Маркуса Гирертса 1620 г. намеренно пародировал портрет 1588 г., так называемую «Армаду», и показывал Елизавету уже не ликующей и властной, а старой, усталой и умирающей; сгорбившись, она сидит в кресле, а по бокам в темноте стоят две фигуры – Время и Смерть. Портрет показал зрителям эпохи короля Якова, которые испытывали все большую ностальгию, что время Елизаветы прошло.
Даже через много лет после смерти королевы возникали слухи о ее незаконных детях, внебрачных связях и физических недостатках. В 1609 г. в Англию контрабандой провезли книгу, написанную на латыни, под непристойным названием Purit-Anus. В ней утверждалось, что Елизавета отдавалась мужчинам разных национальностей, «даже темнокожим», и рожала незаконных детей. В 1658 г. Фрэнсис Осборн в своих солидных «Традиционных мемуарах о правлении королевы Елизаветы» не только прославлял королеву за ее политические достижения и прагматическую умеренность, но и пересказывал сплетни о развращенности Елизаветы, хотя и называл их «странными сказками… пригодными для романа». Осборн считал правдой то, что «ее камер-фрейлины отказались давать ее тело для вскрытия и бальзамирования, что входит в обычай для усопших государей», чтобы защитить ее сексуальную честь или, может быть, физическую аномалию.
В 1680 г. домыслы о личной жизни Елизаветы вылились в ряд сочинений, среди которых «Тайная история прославленной королевы Елизаветы и графа Эссекса». Эту книгу перевели с французского оригинала Comte D’Essex, Histoire Angloise, а в последующем столетии неоднократно перепечатывали и излагали другими словами. Вместе с «Тайной историей герцога Алансонского и королевы Елизаветы», которая вышла одиннадцать лет спустя, они заложили основу традиции писать о личной жизни королевы; в этих и им подобных книгах утверждалось, что ее правление можно понять лишь в преломлении тайных страстей и желаний. Отныне рассказы о потаенных страстях Елизаветы продавались в Лондоне в дешевых изданиях, их инсценировали в лондонских театрах. Спектакли потакали растущему интересу публики к скандалам в высшем обществе. Пьеса Джона Бэнкса «Несчастный фаворит», которую поставили в 1682 г., была инсценировкой «Тайной истории Елизаветы и Эссекса». Бэнкс сосредоточил сюжет на конфликте между личным и публичным образами королевы, тем самым отразив понятие королевы, единой в двух лицах. Елизавета в пьесе представлена слабой королевой, которая приносит обществу огромные жертвы.
Сомнения в девственности Елизаветы перестали быть прерогативой враждебной католической среды, в обществе росло сознание того, что личные чувства Елизаветы компрометировали целостность ее правления и ее статус национального кумира.
На волне популярных биографий королев и придворных к Елизавете все больше относились со смесью восхищения и презрения за ее тщеславие, ревность, мстительность и тайные страсти. В 1825 г. антиквар и литератор Хью Кэмпбелл описывал ее «распутной и безнравственной», охваченной похотью; он повторял давние подозрения в том, что она осталась девственницей только «в силу каких-то природных недостатков». В середине XIX в. публичные дебаты о «нравственности» Елизаветы проводились даже в популярной печати. «Фрейзерз мэгэзин» в 1853 г. выпустил статью в двух частях, где оценивались утверждения о «развращенности» Елизаветы. Автор статьи приходил к выводу, что, хотя исторические доказательства «сомнительны, в лучшем случае», в таком деле, когда «рассматривается характер дамы, сомневаться – значит приговорить». Якобы распутство Елизаветы противопоставлялось прославляемым семейным добродетелям правившей тогда Виктории.
Внимание все больше перемещалось на тело стареющей Елизаветы, появлялось все больше картин, изображавших старую королеву во внутренних покоях. На картине Огастеса Леопольда Эгга «Королева Елизавета обнаруживает, что она уже не молода», которую выставили в Королевской академии художеств в 1848 г., Елизавета изображена в своей опочивальне в образе старухи среди фрейлин, которые дают ей понять, что она смертна, тем, что держат перед ней зеркало. Критики называли картину развенчанием подлинной Глорианы. Последовали сходные изображения, на которых Елизавета представала настоящей старой каргой. Викторианцы были так захвачены образом старой королевы, что один комментатор того времени с прискорбием заметил: «…очень трудно в наши дни найти того, кто считает, что королева Елизавета когда-либо была молодой или кто не говорит о ней так, словно она родилась уже семидесятилетней, покрытой слоем румян и морщинами».
Хотя биографии начала XX в., прежде всего «Королева Елизавета I» Джона Нила (1934), сосредоточены строго на политических мотивах, а не на личной жизни Елизаветы, в исторических романах, пьесах и операх Елизавету по-прежнему изображали королевой, которая вела бурную личную жизнь. Повторяли старые обвинения в том, что Елизавета страдала каким-то уродством или бесплодием. Одни доходили до того, что Елизавета на самом деле была мужчиной или гермафродитом. Другие рассматривали сексуальность Елизаветы тоньше, с психологической точки зрения, и подчеркивали, что ее целомудрие было явной странностью, если не извращением. Литтон Стрейчи в эссе «Елизавета и Эссекс» (1928) рассматривает жизнь королевы в постфрейдистской манере; ее сексуальные желания и отклонения уходят корнями в ее детство и отрочество. Многие критики считали образ Елизаветы, созданный Стрейчи, безвкусным и непристойным; так же критиковали оперу Бенджамина Бриттена «Глориана» (1953), поставленную по книге Стрейчи. Центральной темой оперы стало столкновение между публичной ответственностью и личными желаниями, в ней публичный образ королевы противопоставляется реальному – трагической фигуре тщеславной старухи. Молодая, недавно коронованная королева Елизавета II, в чью честь была поставлена опера, и большинство зрителей восприняли оперу не слишком хорошо. Сцену в опочивальне, где пожилая королева «сняла с головы парик и оказалась почти лысой», сочли проявлением особенно «дурного вкуса».
Тем временем личность Елизаветы все больше притягивала к себе Голливуд. Ее играли Бетт Дэвис в «Личной жизни Елизаветы и Эссекса» (1939) и «Королеве-девственнице» (1955), Гленда Джексон («Королева Елизавета», 1971), Джуди Денч («Влюбленный Шекспир», 1998), Хелен Миррен в «Елизавете I» (2007) и Кейт Бланшетт в фильме Шекара Капура «Елизавета» (1998) и «Елизавета. Золотой век» (2010). Поиски живой женщины за короной продолжаются до сих пор. В каждом фильме, в традиции «тайных историй», сексуальность Елизаветы изображается по-разному. В то время как в «Елизавете» Капура у королевы роман с Дадли, к концу фильма она приносит крайнюю жертву, отказываясь от своей сексуальности и превращаясь в «королеву-девственницу». Образ довершают коротко стриженные волосы и белое, покрытое толстым слоем белил лицо. В фильме производства Би-би-си «Королева-девственница» Елизавета, сыгранная Анной Марией Дафф, также показана в постели, где она занимается любовью с Дадли, но затем вскакивает и в ужасе кричит; оказывается, это был только сон. Бессознательное желание интимной близости в Елизавете конфликтует с первобытным страхом такой близости.
В начальной сцене получившего многочисленные награды фильма, где Елизавету играет Хелен Миррен, королева предстает в возрасте за сорок. Ее раздевают – медленно, предмет за предметом, развязываются шнурки, снимаются рукава – и так до тех пор, пока она не остается в одной белой вышитой рубахе. Она ложится на кровать, ноги ей закрывают простыней, и у постели появляется врач с расширителем. Королева идет на крайнюю степень обнажения – она соглашается на осмотр ради страны. Она не выказывает никаких эмоций, когда врач произносит: «Все в полном порядке, мадам» – и затем, иллюстрируя политический характер таких личных дел, немедленно сообщает о своих открытиях Сесилу и Уолсингему, которые ждут в коридоре снаружи: королева по-прежнему девственница, virgo intacta, и способна иметь детей.
Такие яркие портреты, вместе с историческими произведениями, например романами Джин Плейди и более недавними романами Филиппы Грегори, питают вечное стремление по-новому интерпретировать «жизнь и любовь» королевы-девственницы. Вопросы, которые подняли «тайные истории» в конце XVII в., продолжают занимать широкую публику и сегодня. При жизни Елизаветы она сама и ее приближенные дамы упорно защищали ее репутацию и корону. После смерти именно сомнения и поиски правды о королеве-девственнице, а также предположения, что она не была целомудренна, продолжают привлекать читателей и обеспечивают ей долгую популярность.
Из книги Ружья, микробы и сталь [Судьбы человеческих обществ] автора Даймонд ДжаредЭпилог. Будущее гуманитарной истории как науки Вопрос Яли затрагивал самую сущность современного бытия человека и всей истории человечества после конца плейстоцена. Теперь, когда мы завершили беглый обзор эволюции человеческих обществ на разных континентах, что мы
Из книги 1937. АнтиТеррор Сталина автора Шубин Александр ВладленовичТайные связи 14 января 1933 г. ОГПУ провело аресты троцкистов. Многие из них формально заявили о разрыве с Троцким и оппозиционной деятельностью. У И. Смирнова, Е. Преображенского и других 75 арестованных было обнаружены письма Троцкого из-за границы, переписка с троцкистами,
Из книги Курс русской истории (Лекции LXII-LXXXVI) автора Ключевский Василий ОсиповичТайные общества Историю тайного общества и возбужденного им мятежа можно передать в немногих словах. Масонские ложи, терпимые правительством, давно приучили русское дворянство к такой форме общежития. При Александре тайные общества составлялись так же легко, как теперь
Из книги Тамплиеры автора Рид Пирс Пол Из книги История Древнего мира [с иллюстрациями] автора Нефедов Сергей АлександровичЭПИЛОГ ГРЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ При раздорах и великие государства рушатся. Саллюстий. Трагизм истории заключался в том, что римляне воевали с греками руками греков. Спарта была сокрушена войсками ахейского союза городов, возглавляемого Коринфом; с этого времени Ахейский
Из книги Неизвестный Берия. За что его оклеветали? автора Мухин Юрий ИгнатьевичТайные союзники Гитлеровцы были расистами – они считали арийцев, в первую очередь, себя, высшей расой. И евреи, из тех, кто был объединен сионизмом, тоже расисты, и тоже считают себя даже не высшей, а богоизбранной нацией. Гитлер собирался создать Третий рейх – империю
Из книги Василий Шуйский автора Скрынников Руслан ГригорьевичТАЙНЫЕ КАЗНИ Прошло несколько лет после окончания Ливонской войны, а последствия войны и разрухи не были преодолены. В 1587–1589 гг. на страну обрушились новые стихийные бедствия. Неблагоприятные погодные условия погубили урожай. Цены на хлеб взлетели в Москве и Новгороде,
Из книги Генштаб без тайн автора Баранец Виктор НиколаевичТайные миссии Мрачной зимой 1995 года, в самый разгар чеченской войны, на Арбатской площади по вечерам частенько стали ошиваться одетые с европейским шиком мужчины. Смуглый цвет лиц, тонкие усы и по-ястребиному цепкий взгляд выдавали в них кавказцев. Люди эти почти сразу
Из книги Альфред Йодль. Солдат без страха и упрека. Боевой путь начальника ОКВ Германии. 1933-1945 автора Юст ГюнтерТайные преступления О тайных преступлениях в концентрационных лагерях Йодль говорит в связи с системой сохранения тайны в ставке:«Сохранение в тайне политики уничтожения евреев, событий в концентрационных лагерях и великолепный обман Гиммлера, который показал нам,
Из книги История магии и оккультизма автора Зелигманн Курт Из книги Петербургские ювелиры XIX века. Дней Александровых прекрасное начало автора Кузнецова Лилия Константиновна Из книги «Черный пояс» без грифа секретности автора Куланов Александр ЕвгеньевичТайные общества Нетрудно заметить, что отнюдь не все перечисленные общества на самом деле являлись тайными, и, несмотря на их явный экстремизм и возможность участия в разведывательной и террористической деятельности, в их числе ни разу упоминалась организация, в связях
Из книги Тайны советского футбола автора Малов Владимир Игоревич Из книги Тайны цивилизаций [История Древнего мира] автора Матюшин Геральд НиколаевичТайные святилища Маленькая Маша делает большое открытие. Это случилось в Испании более ста лет назад. У охотника на лугу вдруг исчезла собака. Он услышал ее лай откуда-то из-под земли. Обнаружив нору, стал ее раскапывать и… очутился в пещере. Ее назвали Альтамира. Археолог
Из книги Александр I Благословенный автора Колыванова Валентина ВалерьевнаТайные общества Александр был убежден, что выступление солдат Семеновского полка инспирировано тайным обществом. «Никто на свете меня не убедит, чтобы сие выступление было вымышлено солдатами или происходило единственно, как показывают, от жестокого обращения с оными
Из книги Великие рогоносцы автора Ватала ЭльвираТайные рогоносцы Затаил свои рога… Брантом
«О Боже! Нами будет править женщина!». Восклицание это принадлежало одному из подданных Елизаветы, впервые увидевшим государыню после её коронации. Шёл 1558 год, и высказывание это отражало общественные настроения той эпохи и тот страх, который испытывал каждый англичанин, с беспокойством заглядывавший в будущее. Немногие тогда могли себе представить, что 45-летнее правление Елизаветы I станет одним из самых славных периодов в истории Англии…
Для того, чтобы понять недоумение и беспокойство, охватившее английский двор по воцарении Елизаветы, нужно обратить свой взор на историю королевства.
В Англии не было законов, запрещавших наследование трона лицами женского пола, но также и не имелось прецедентов подобного рода. Ко всему прочему, в памяти народа ещё свежо было предание о вмешательстве женщин в политику, каковым был, к примеру, мнимый заговор, организованный Анной Болейн, матерью Елизаветы, против её отца, Генриха VIII, за который несчастная заплатила собственной жизнью.

Генрих VIII обвиняет Анну в измене. Гравюра с картины К. Пилоти. 1880 год
Перелистывая частную переписку королевских министров того периода мы узнаём много любопытного. Так, например, многие из них жалуются на то, каким невыносимым занятием является служение женщине и необходимость исполнять все её капризы.
Одним из основных поводов для жалоб была нерешительность Елизаветы и отсутствие твёрдости в принятии решений. Издав очередной указ, королева была способна отменить своё решение через день, а то и через час, внося таким образом сумятицу в работу государственного аппарата. Чиновники сетовали, что такая неразбериха лишала их сна.
Другим поводом для жалоб было присутствие при дворе у Елизаветы её фаворитов, которых королева назначала на ответственные посты и щедро одаривала поместьями и крупными денежными суммами.
Что же касается прекрасной половины английского двора, то она была недовольна ревностью и тщеславием рыжеволосой правительницы, не терпевшей рядом с собой разодетых в пух и прах фрейлин. Одеваться богаче и роскошнее самой королевы было просто-напросто запрещено.
Елизавета родилась в полдень 7 сентября 1533 года в покоях Гринвичского дворца. Говорят, что с первых дней ее появления обстановка вокруг новорожденной была не слишком-то доброжелательной. Придворные шептались, что рождение дочери — Божья кара королю Генриху за разрыв с Римом. Кто-то невзлюбил принцессу и за то, что она — дочь Анны Болейн, «шлюхи Нэн», укравшей корону у законной королевы Екатерины Арагонской.

Принцесса Елизавета Тюдор в возрасте 14 лет. Портрет был написан в подарок сводному брату Эдуарду VI. (Художник - Вильям Скротс)
Но тогда маленькая Елизавета еще не понимала этого. Она жила в загородном дворце Хэтфилд в окружении целой армии нянюшек и слуг. Прежде Хэтфилд занимала дочь Екатерины — Мария, которую теперь отселили в дальний флигель, лишив всех почестей.
Впоследствии «кровавая Мэри» не забудет этого, и, когда ее попросят представиться принцессе, Мария ответит: «В Англии только одна принцесса — я». Отец и мать тоже навещали дочь нечасто: Генрих был занят государственными делами, а Анна — приемами и праздниками.
Иногда Елизавету привозили в Лондон, чтобы показать иностранным послам и наметить будущие выгодные браки. В ту эпоху не считалось зазорным сватать принцесс чуть ли не с рождения. Когда девочке было семь месяцев, Генрих едва не сговорился о ее обручении с третьим сыном Франциска I. С этой целью малышку предъявили французским послам сперва в «роскошном королевском облачении», а затем голой, чтобы они убедились в отсутствии у невесты физических недостатков.
Во времена, когда больше младенцев умирало, чем выживало, Елизавета росла на удивление здоровой, румяной и не по годам сообразительной. Плакала она редко, зато прекрасно знала, как при помощи слез добиться у нянюшек желанного лакомства или игрушки. Конечно, «единственную» наследницу баловали и угождали всем ее желаниям.
Во время дворцовых торжеств к трехлетней малышке выстраивалась целая очередь пэров, которые складывали у ее ног подношения. Елизавета в сшитом, как на взрослую, парчовом платье благодарила каждого, изящно приседая на французский манер. Уже тогда она приучалась вести себя, как подобает королеве.
Девочка навсегда запомнила страшный день 1 мая 1536 года. Прижав ее к себе, мать стояла на коленях перед отцом, выкрикивая жалкие оправдания... После этого Елизавета видела короля очень редко, а мать — больше никогда. На суде Анну обвинили в распутстве, после чего сразу распространились слухи, что Елизавета — не королевская дочь.

Семейный портрет. В центре Генрих VIII с третьей женой Джейн Сеймур и их сыном Эдуардом VI. Слева принцесса Мария - дочь Генриха и его первой жены Екатерины Арагонской. Справа - Елизавета.
В самом деле, худенькая рыжая девочка мало напоминала Генриха VIII, зато была весьма похожа на мать, а также на ее предполагаемого любовника — придворного музыканта Марка Смитона. Сам Генрих, похоже, не сомневался в своем отцовстве, но предпочел убрать с глаз долой ту, что напоминала о его позоре.
Елизавета по-прежнему жила в Хэтфилде под надзором «начальницы нянь» леди Брайан и управляющего Джона Шелтона. Генрих сократил расходы на содержание дочери, но распорядился воспитывать ее по-королевски — ведь она оставалась выгодным товаром для иностранных женихов.
Осенью 1536-го у нее появилась новая гувернантка Кэтрин Эшли, которая заботилась не только о воспитании девочки, но и об образовании, обучая ее читать и писать по-английски и на латыни. Долгое время Кэт заменяла принцессе мать, и позже Елизавета вспоминала:
«Она провела подле меня долгие годы и прилагала все усилия к тому, чтобы обучить меня знаниям и привить представления о чести… Мы теснее связаны с теми, кто нас воспитывает, чем с нашими родителями, ибо родители, следуя зову природы, производят нас на свет, а воспитатели учат жить в нем».
Елизавету научили всему: вести себя за столом, танцевать, молиться и рукодельничать. Уже в шесть лет она подарила маленькому братику Эдуарду батистовую рубашку собственного изготовления.
Вообще-то у Елизаветы не было особых причин любить сына Джейн Сеймур, который закрывал ей дорогу к трону. Правда, сама королева Джейн обращалась с девочкой ласково, но вскоре после рождения сына она умерла. Потом промелькнули еще две королевы — так быстро, что Елизавета едва успела их заметить.
Шестая и последняя супруга отца Екатерина Парр твердо решила относиться к королевским отпрыскам как к своим детям. Именно по ее просьбе Елизавета, Мария и Эдуард обосновались в королевском дворце.

Екатерина Парр — любимая мачеха Елизаветы.
Старшая сестра ликовала — для нее это было приближением к желанной власти. А Елизавета тосковала по зеленым лугам и лесам Хэтфилда, по своей Кэт и по товарищу детских игр — Роберту Дадли, сыну одного из приближенных Генриха. Только с ним нелюдимая принцесса была откровенна и однажды сказала, что, насмотревшись на печальную участь отцовских жен, решила никогда не выходить замуж.
С 1543 года Елизавета обучалась наукам под руководством ученых профессоров Чика и Гриндела, к которым позже присоединился наставник принца Эдуарда Роджер Эшем. Все они были людьми глубоко верующими и одновременно гуманистами, отвергавшими фанатизм и нетерпимость предыдущей эпохи.
Елизавета стала первой английской принцессой, воспитанной в духе Ренессанса. Прежде всего это означало изучение древних языков и античной культуры. К двенадцати годам она умела читать и говорить на пяти языках — английском, латинском, греческом, французском и итальянском.
Ее таланты произвели впечатление даже на королевского антиквара Джона Лиланда, который, проверив знания девочки, пророчески восклицал: «Это чудесное дитя станет славой Англии!»
В лабиринтах власти
После смерти Генриха VIII в положении Елизаветы многое изменилось. Оставив дворец брату, она вместе с Марией переехала в особняк королевы в Челси, где вскоре появился новый хозяин — Екатерина Парр вышла замуж за адмирала Томаса Сеймура.
Этот интриган играл важную роль при дворе своего племянника и не терял надежды закрепить ее браком с одной из принцесс. До женитьбы на Екатерине он безуспешно сватался к Марии, а потом добивался позволения жениться на ее сестре. Считая себя неотразимым кавалером, он начал откровенно приставать к своей падчерице.

Томас Сеймур — английский государственный деятель, адмирал и дипломат при дворе Тюдоров.
По утрам он врывался к Елизавете в спальню и принимался тормошить и щекотать юную принцессу, нимало не стесняясь присутствия служанок и верной Кэт. Понемногу девушка начала верить в чувства адмирала, но однажды Екатерина застала ее в объятиях мужа. Разыгрался скандал, и в апреле 1548-го Елизавета со своими слугами переехала в поместье Честнат.
На новом месте принцесса с усердием предалась учебе под руководством Эшема. В сентябре, за два дня до ее пятнадцатилетия, умерла от родов королева Екатерина. По Лондону разнеслись слухи, что адмирал, амбиции которого продолжали расти, вот-вот посватается к Елизавете, и даже Кэт считала это хорошей идеей.
Многие думали, что Сеймур уже соблазнил принцессу, и именно это ускорило смерть его супруги. Похоже, рыжая чертовка пошла в свою развратницу-мать. Между тем Елизавета все сильнее укреплялась в своем отвращении к браку. Этому способствовало поведение Сеймура, который теперь лицемерно лил слезы над гробом жены, прибрав к рукам ее немалое состояние.
Адмирал не скрывал своих притязаний на власть, и Елизавета жила в постоянном страхе того, что он просто вынудит ее выйти за него замуж. Конец наступил в марте 1549-го — Томас Сеймур был арестован и спустя неделю казнен. Елизавету тоже допрашивали на предмет участия в заговоре, но быстро оправдали.
Тем временем страну вновь охватило религиозное брожение, и обе принцессы не могли быть в стороне от него. Мария оставалась убежденной католичкой, а воспитанная в протестантском духе Елизавета все больше проявляла себя защитницей новой веры. Это противоречие стало явным, когда в июле 1553 года болезненный Эдуард умер. Корона досталась Марии, быстро восстановившей в Англии католические порядки.

Мария I вступает в Лондон…
Елизавета выразила полную покорность сестре, однако испанские советники Марии убеждали, что доверять принцессе нельзя. Что, если она очарует какого-нибудь могущественного вельможу или даже иностранного государя и с его помощью захватит власть?
Первое время Мария не особенно верила этим слухам, но заговор протестантов в марте 1554-го изменил ее мнение. Елизавету бросили вТауэр , и ее жизнь спасли только унизительные просьбы о пощаде.
Принцессу сослали в захолустный Вудсток. В тамошнем сыром климате ее стали донимать болезни: лицо покрылось фурункулами, внезапные приступы гнева сменялись слезами. Кое-как пережив зиму, она вернулась в столицу: Филипп Испанский, ставший мужем Марии, решил безопасности ради держать Елизавету поближе ко двору. По слухам, у этого решения была и другая причина: Филипп поддался ее незаурядному обаянию.
Скоро Елизавета перебралась в любимый Хэтфилд, где вокруг нее стали собираться друзья — Кэт Эшли, казначей Перри, учитель Роджер Эшем. Все больше придворных и церковников приезжали сюда, покинув королевский дворец, где хозяйничали испанцы.
К осени 1558-го, когда здоровье Марии резко ухудшилось, путь ее сестры к трону преграждали лишь два человека. Одним был Филипп Испанский. Другим — Реджинальд Поул, кардинал и архиепископ Кентерберийский, который был убежденным католиком и пользовался большим влиянием при дворе. Однако судьба продолжала хранить Елизавету:
16 ноября, когда Мария испустила последний вздох, Филипп оказался в Испании, а кардинал Поул сам лежал при смерти. В тот же день, ближе к полудню, в зале парламента Елизавета была провозглашена королевой Англии. Огромная толпа горожан, собравшаяся у мэрии, встретила это известие радостными криками.

Коронация Елизаветы в 1558 г.
Ко времени своего восшествия на престол Елизавета была уже сформировавшейся, сильной личностью, внутренне готовой к управлению такими обширными и беспокойными владениями, каковыми являлась владения британской короны.
Молочно-белая кожа, пронзительные голубые глаза, тонкий нос с горбинкой и копна медно-рыжих волос, так выглядела в ту пора наследница Генриха VIII.
Одним из вопросов, занимавшим умы советников и придворных после вступления Елизаветы на трон, был вопрос её замужества, которое бы гарантировало рождение наследника и поддержание династии Тюдоров.
Доподлинно неизвестно, почему Елизавета с таким упорством отвергала для себя возможность заключения брака. Среди придворных ходили упорные слухи о том, что в силу некоего физического недостатка она не могла вести супружескую жизнь.
Одной из наиболее вероятных причин является и в высшей степени независимый характер гордой, честолюбивой и амбициозной Елизаветы и её стремление к единоличной власти. Будучи умной, холодной и расчётливой особой, она прекрасно понимала, что наличие супруга, а тем более наследника, ослабит её безграничную власть над подданными.
"Для славы Божьей, для блага государства, я решила нерушимо хранить обет девственности. Взгляните на мой государственный перстень, — говорила она, показывая депутатам парламента на этот символ власти, еще не снятый после коронования, — им я уже обручилась с супругом, которому, неизменно буду верна до могилы...

Мой супруг — Англия, дети — мои подданные. Я изберу себе в супруги человека достойнейшего, но до тех пор желаю, чтобы на моей гробнице начертали: "Жила и умерла королевою и девственницей ".
Первым европейским государем, посватавшимся к Елизавете, был Филлип II Испанский, вдовец её старшей сестры, Марии Тюдор, умершей от водянки. В своём послании испанский король писал, что готов взять на себя заботы по управлению государством, «более подобающие мужчине », и требуя, в свою очередь, от Елизаветы, отказаться от протестанства и принять католичество. Как и следовало ожидать, это сватовство не увенчалось успехом.
Кроме Филиппа Испанского, согласия Елизаветы также домогались электорпалатин Казимир, эрцгерцог австрийский Карл, герцог Голштинский, наследный принц Эрик XIV Шведский, но ни один из них не добился благосклонности королевы. Ходили слухи, что истинной причиной упорства Елизаветы стали её нежные отношения с Робертом Дадли.
С Робертом Дадли, младшим сыном герцога Нортумберлендского, будущая государыня познакомилась ещё 8-летним ребёнком. Они были ровесниками, и повстречались, вероятнее всего, в классной комнате королевского дворца.
Роберт был талантливым, умным и любознательным мальчиком, питавшим склонность к математике, астрономии, и делавшим заметные успехи в верховой езде. Он, как никто другой, знал Елизавету и впоследствии утверждал, что уже с раннего детства она была тверда в своём намерении никогда не выходить замуж.
В 1550, дабы избежать кривотолков и поправить своё финансовое благосостояние, Роберт женился на Эми Робсарт, дочери одного Норфолкского сквайра.
С восшествием на трон Елизаветы жизнь и карьера Роберта приняли головокружительный оборот. Дадли был пожалован престижный пост, требовавший его неотлучного пребывания при королевской особе. За ним последовали денежные вознаграждения, поместья и новые титулы.

Роберт Дадли
Злые языки утверждали, что они были любовниками, и что Елизавета носила под сердцем ребёнка от Роберта, но никаких документальных свидетельств тому не сохранилось. Несомненным остаётся лишь то, что королева была пылко влюблена, и что Дадли отвечал ей взаимностью.
Привилигированное положение молодого фаворита, конечно же, не могло не вызывать нареканий. Во всей Англии не было ни одного человека, который бы замолвил за него доброе слово. Ситуация общей неприязни усугубилась в 1560, когда молодая жена Роберта была найдена в своём доме в Оксфордшире у подножия лестницы со сломанной шеей. Многие тогда были уверены, что Дадли решил таким образом избавиться от нелюбимой супруги с тем, чтобы жениться на королеве.
Эми РобсартДостоверно известно, что Эми в то время была больна раком груди, и согласно современным медицинским исследованиям, причиной её смерти мог стать самопроизвольный перелом костей, спровоцированный усилием, потребовавшимся для того, чтобы подняться по лестнице.
Разумеется, медицина элизаветинской эпохи не располагала такими знаниями, и все, включая и самого Роберта, решили, что Эми была убита. Сей факт сделал практически невозможным официальный брак между Дадли и Елизаветой, поскольку он лишь подтвердил бы подозрения в убийстве и бросил тень на королеву.
Дадли, однако же, не терял надежды на брак в течение нескольких последующих лет. В 1575 году на пышном празднестве, устроенном в Кенилвортском замке, Роберт в последний раз попросил руки Елизаветы. Она ответила отказом.
Надо заметить, что Роберт Дадли был далеко не единственным мужчиной, пользовавшимся благосклонностью королевы.
В 1564 году на пост хранителя королевской печати был назначен молодой и амбициозный Кристофер Хаттон, который в своих восторженных посланиях к королеве писал о том, что служение ей подобно дару небес, и что нет ничего хуже, чем быть в удалении от её особы.
При дворе снова заговорили о том, что Елизавета обзавелась новым любовником, но как и в истории с Дадли слухи остались всего лишь слухами.

Уолтер Рэли — английский придворный, государственный деятель, поэт и писатель, историк, фаворит королевы Елизаветы I.
На смену Хаттону пришёл Уолтер Рэли, молодой поэт и авантюрист, посвящавший Елизавете восторженные оды и основавший колонию в Северной Америки, названную в честь королевы-девственницы Вирджинией.
Он был подвержен опале после того, как Елизавете стало известно о его тайном венчании с одной из её фрейлин. Ходили слухи, что Роберт Дадли, смертельно ненавидевший Рэйли, приложил руку к свержению фаворита.
Последним капризом 50-летней Елизаветы стал 17-летний граф Эссекс, красивый молодой человек, к которому, по свидетельствам некоторых современников, королева питала исключительно материнские чувства.
На закате жизни Елизаветы, когда матримониальные планы и надежды на рождение наследника отошли в прошлое, образ королевы-девственницы, пожертовавшей собой во имя государства, приобрёл особый смысл. Елизавету сравнивали с богиней Дианой и с Девой Марией, превращая её невинность в своеобразный культ.
Последние годы елизаветинской эпохи были отмечены общим упадком и разложением. Стареющая королевы уже не в состоянии была контролировать правительство и своих многочисленных придворных. Дуэли и сексуальные скандалы стали во дворце обычным делом.
Бывший фаворит Елизаветы, граф Эссекс, был уличён в заговоре против неё с целью захвата престола. Упадок и запустение при дворе совпали с общим недомоганием самой Елизаветы, которая невзирая ни на что по-прежнему занималась танцами, верховой ездой, следила за здоровьем, следуя специальной диете, и заботилась о своём внешнем виде: стареющая кокетка носила ярко-рыжий парик и обильно пользовалась белилами, маскировавшими следы некогда перенесённой оспы. Впрочем, зеркала в покоях Елизаветы были давным-давно убраны по её собственному приказу.

Смерть королевы Елизаветы I.
Умерла королева в серый ненастный день 24 марта 1604 года в своём дворце в Ричмонде на 72-ом году жизни, на 16 лет пережив единственного мужчину, которого она видела в роли своего супруга, Роберта Дадли…
Велите привести камеру в порядок и принести нормальный ужин, чтобы у меня была возможность похвалить перед королем вашу заботу о подследственных. Заметьте, я не говорю «заключенных», я всего лишь под следствием из-за мерзавца Сеймура!
Вряд ли кто-то разговаривал с комендантом таким тоном. Блеф - мой коронный номер, главное, не сбавлять темп и вести себя увереннее, но не перестараться.
Сработало, он сухо поклонился:
Сейчас все сделают, миледи. Пройдите пока в другую комнату.
Едва не заорав «Йес!», я потопала в ту же комнатуху, где меня допрашивали. Шла с таким видом, словно делаю одолжение Тауэру одним своим присутствием, хотя помнила, что здесь сидели даже Кромвель и еще много кто.
Больше со мной комендант разговаривать не стал. Правильно сделал, мало ли что… Ужин мне принесли вполне приличный прямо в комнату, где я пережидала.
Какой воды? - удивился охранник.
Руки вымыть после грязной камеры!
Такие королевские замашки были охраннику незнакомы и неприятны, но, поняв, что со мной лучше не связываться, воду мне все же принесли.
Вот так-то, будете знать, как сажать в Тауэр выпускниц медицинского! Я вам тут наведу порядок, будете жить плохо, но недолго, как говаривал почти через пять сотен лет белорусский батька.
Камеру тоже привели в порядок, постель была хоть и не новой, но приличной, ведро заменили, полы вымыли. В углу стоял табурет с небольшим тазом и кувшином в нем. Сервис, однако… все включено. Ага, а заодно и выключено.
Убогая свеча больше коптила, чем светила, потому я ее быстро задула и улеглась, не раздеваясь, закинув руки за голову и глядя в потолок.
Итак, подведем итоги, леди Кэтрин.
Вы в Тауэре. Не на экскурсии, а реально. Куда уж реальнее, вон как тянет сыростью. Обвиняют вас в пособничестве принцессе Елизавете в ее желании выйти замуж за Сеймура. Нечестно обвиняют, кстати, потому что, когда я тут появилась, в смысле в XVI веке, она замуж за Сеймура уже явно не хотела, потому как лорд обошелся с Бэсс как последняя сволочь. Доказать ничего не смогут, потому что если что и было, то только на виду у королевы, а об остальном знаем только мы с Елизаветой. Бэсс не дура и выдавать саму себя не станет, значит, остается стоять на своем до последнего.
Какого еще последнего?! Ни погибать в Тауэре, ни задерживаться здесь надолго я не собиралась. Правда и качать права тоже особенно не получится, я действительно птица не того полета, чтобы меня содержали в особых покоях «для невольных гостей». И жизнь травить охране и коменданту опасно, неизвестно, как надолго я здесь, они в ответ могут отравить так, что небо с овчинку покажется. Я хмыкнула: а оно какое? Покосившись на маленький четырехугольник зарешеченного окна, убедилась, что не больше, если не меньше этой самой овчинки, овцы тоже бывают разные.
Только бы Елизавета не проболталась и потом скорее вытащила меня. А кого взяли еще, не может быть, чтобы только нас с Бэсс?
Я оказалась права, сидели еще Серега-Парри и его сестра. Парри выдержала все нападки, а вот Серега оказался треплом. То ли с перепугу, то ли по недомыслию, но он рассказал кое-какие подробности о приставаниях лорда Сеймура к Елизавете. Когда тот же следователь бросил передо мной на стол протокол допроса моего напарника со словами: «Вот показания мистера Парри о разрезанном платье вашей воспитанницы!», я мысленно ахнула. Вот придурок! Но внешне ничем себя не выдала, спокойно пожав плечами:
Это была шутка королевы. Или вы подозреваете Ее Величество в дурных намерениях против своей падчерицы?
Так было изрезанное платье?
Ну было, и что? Какое это имеет отношение к моим обвинениям?
Здесь вопросы задаю я. Лорд Сеймур заходил в спальню к леди Елизавете?
Ее Величество вдовствующая королева Екатерина заходила по утрам вместе со своим супругом лордом Сеймуром в спальню к Ее Высочеству Елизавете, чтобы как добрые родители пожелать ей доброго же утра. Или вы полагаете, что вместе с супругой можно заходить еще чего-то ради?
Отрицать только саму связь Елизаветы с Сеймуром, а то, что видели служанки, что было у всех на виду, отрицать глупо. В конце концов, надо спрашивать у Екатерины Парр, зачем она позволяла своему мужу появляться в спальне падчерицы и зачем ходила сама?
Господи, какой же здесь надо быть осторожной, особенно Елизавете! Если выйду отсюда, буду внушать Рыжей, чтобы выкинула из головы все мысли о любовных шашнях, не то можно и на плаху загреметь!
Но пока надо было выйти. Шли день за днем, еду мне приносили вполне терпимую, ведро выносили, вода тоже была, хотя и понемногу, но очень хотелось покинуть «гостеприимный» Тауэр.
Елизавету пригласили к завтраку. После пережитого не хотелось не только есть, но жить вообще, но Тиррит не позволил уклониться, он сам явился с глубочайшими извинениями.
Принцесса только махнула рукой:
Подите прочь! Кого вы еще приведете для моего осмотра? Чьи секреты потребуете выдать?! Или в следующий раз это сделают на площади при большом количестве наблюдателей?
Она больше не желала бояться или перед кем-то унижаться! Требование было одно: вернуть всех ее людей и самим убраться вон из имения! Кэтрин и Парри вернулись, охрана из Хэтфилда исчезла. Но Елизавета поняла, что не в состоянии жить там, где перенесла столько ужасных минут, и стала просить у брата разрешения вернуться ко двору. Кто теперь сможет ее в чем-то обвинить?
Барона Сеймура казнили. Кэтрин рассказала за что. Он был виновен отнюдь не только в клевете на принцессу, это оказалось самым малым из его преступлений. Сеймур дошел до того, что чеканил фальшивые монеты и даже попытался захватить короля, чтобы силой навязать стране свою власть! И в этого человека она была влюблена?! От него чуть не родила?! В того, кто так подло обманул, предал, продолжал предавать, даже понимая, что тащит вместе с собой в Тауэр и на плаху?! Сеймуру уже ничто не могло помочь, когда он, походя, зацепил с собой и Елизавету, погибая сам, решил увлечь за собой и ту, которую обесчестил.
Первая леди двора
В Хэтфилд примчался гонец от короля. Елизавета читала письмо, внешне стараясь не выдать своих мыслей, но я-то видела, как она радуется. Чему? Неужели Эдуард решил отказаться от трона в ее пользу? Ага, фиг он откажется, самому трон дорог. Или оставил завещание в ее пользу? Тоже не дождешься, он еще и жениться успеет, а то и детей нарожать.
Бэсс протянула мне письмо, выжидающе наблюдая, как я читаю.
Зачем вам это, Ваше Высочество?
Юный король Эдуард вызвал ко двору обеих сестер, но недвусмысленно намекнул, что если старшая из них Мария не сможет из-за плохого самочувствия, то он не обидится. Просто Эдуарду совсем не хотелось ежедневно спорить с Марией из-за ее месс и католического вероисповедания. Елизавета была, как и он сам, протестанткой.
Я прекрасно понимала другое: надеется стать первой дамой двора. У короля нет супруги, если старшая сестра не приедет, то Елизавете уготована роль первой леди.
Вы зря думаете, что при дворе будет безопасно и комфортно…
Сколько ни спорили, Бэсс стояла на своем: она должна ехать! Эту Рыжую фиг переспоришь! Хоть бы не вздумала там рожать еще от кого-нибудь.
Мария все же приехала, но Елизавете удалось затмить ее, причем взять действительно молодостью и свежестью. Вокруг Эдуарда увивалось множество девиц и их мамаш, ведь юный неженатый и даже не обрученный король был лакомым кусочком. Всем ясно, что он долго не протянет: мальчик, который с детства был очень крепким и здоровым, вдруг стал чахнуть и теперь был хилым и болезненным.
Елизавета после их первой встречи чуть не плакала:
Кэт, что они сделали с нашим Эдуардом? Мы не должны были уезжать от него, нужно все время жить рядом!
Сдается, вы не по собственной воле жили в Челси, а потом в Чешанте?
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Стоял ноябрь, самый печальный из месяцев английской зимы, когда злобный ветер уже успел сорвать с деревьев последние жёлтые листья, а земля раскисла от дождей. До конца 1558 года оставалось лишь два месяца; то был год бедствий и смут, и этим он походил на всё царствование королевы Англии, которая ныне лежала больная в своём лондонском дворце.
Мария Тюдор правила уже шесть лет , и большинство её подданных надеялись, что её болезнь будет смертельной. Страна до предела обнищала, её разрывали на части религиозные междоусобицы, война с Францией не принесла ей ничего, кроме унижения и разгрома, а сама королева была больной фанатичкой, тело которой изнуряла водянка, а душу грызла безысходная тоска.
В тридцати милях от Лондона, в графстве Хертфордшир, сводная сестра королевы Марии Елизавета стояла у окна своей комнаты в усадьбе Хэтфилд, окидывая взглядом мокнущий под дождём парк и оголившиеся деревья. Этот вид был ей знаком едва ли не с рождения; в детстве она играла в этой самой комнате, а по этому парку каталась на своём первом пони. Хэтфилд был единственным местом, которое она могла назвать родным домом. У Елизаветы было очень мало привязанностей, и всё же она любила эту старую усадьбу из красного кирпича, с которой её связывали воспоминания о детстве. Долгие часы проводила она здесь в одиночестве, предпочитая лучше побыть наедине с собственными мыслями, чем оставаться в обществе женщин, которые прислуживали ей и доносили королеве Марии о каждом её шаге. Елизавета была не такой высокой, как казалась: иллюзию высокого роста создавали очень стройная фигура и безукоризненная осанка, а черты бледного лица поражали скорее своей необычностью, чем красотой в общепринятом смысле этого слова; нос с горбинкой, глаза прикрыты тяжёлыми веками. То были странные глаза - большие, блестящие и чёрные как агат. Елизавета унаследовала их от своей матери Анны Болейн , о красоте которой некогда шла очень дурная слава, но светлой кожей и огненно-рыжими волосами она напоминала своего отца - гиганта-деспота Генриха VIII . Спускались ранние зимние сумерки, вышивать или читать стало уже невозможно; в доме стояла мёртвая тишина, а Елизавета стояла и пристально смотрела на струи дождя за окном.
С Хэтфилдом было связано столько событий прошлого, столько самых ранних её воспоминаний, смутных и путаных, принадлежало этому старому дому, где она появилась на свет, будучи наследницей английского трона. Когда она была двухлетней крошкой, к ней уже была приставлена многочисленная свита: слуги, пажи и фрейлины. Иногда здесь появлялась странная темноволосая женщина, от которой сильно пахло духами, - Елизавета знала, что это её мать; ещё в её памяти сохранилось воспоминание о светловолосом великане, таком тяжёлом, что под его шагами дрожал пол; он поднял её и поставил на окно. Когда она научилась сама взбираться на подоконник, все фрейлины и пажи вдруг куда-то исчезли, а её стали называть просто леди Елизаветой. Избалованная девочка стучала кулачками, недоумённо требуя объяснить, куда подевалась её челядь и почему те немногие, что остались, обращаются к ней по имени и без поклонов. Никто не был в силах объяснить ей, что она больше не принцесса, что её отец развёлся с матерью и своим указом объявил Елизавету незаконнорождённой.
Мать её больше не навещала, а когда гувернантка леди Брайан тихо сказала ей, что Анна Болейн умерла, Елизавета лишь непонимающе вытаращила на неё глаза. Для ребёнка слово «смерть» было лишено всякого смысла. От неуверенности девочка всё больше раздражалась, но чем больше вопросов она задавала, тем менее понятными были ответы. Лишь много лет спустя, когда она уже могла выглянуть из окна, не залезая на подоконник, служанка шёпотом рассказала ей, как именно умерла её мать-королева. Елизавета пронзительно вскрикнула, подбежала к умывальнику, и её стошнило. Долгое время по ночам она с криком ужаса просыпалась от кошмаров, в которых ей снился отец, стоящий с высоко поднятым окровавленным топором в руках.
Она помнила, как её сводная сестра Мария, старая дева двадцати двух лет, однажды пришла к ней посреди ночи, зажгла свечу и сидела у её постели, пока она не заснула. Мария не любила Елизавету, но её странные поступки озадачивали девочку; она дарила сестре подарки на Рождество и новый год и уверяла её, что отец - хороший, добрый человек и заслуживает любви своих детей, хотя и она и Елизавета знали правду о его делах.
А когда их отец наконец умер, Мария каждое утро ходила к мессе и молилась за упокой грешной души, наверняка оказавшейся в аду, - если, разумеется, у этого человека вообще была душа. Елизавете всегда было трудно понять Марию.
Затем Мария влюбилась в короля Испании Филиппа и вышла за него замуж вопреки воле своего народа. И всё же, будучи замужней женщиной и королевой, чью власть никто не ставил под сомнение, она вряд ли знала о политике и страстях человеческих столько, сколько её сестра. Любовь рано пришла к Елизавете в образе громогласного красавца, который после смерти короля Генриха женился на её мачехе Екатерине Парр. Елизавета жила в их доме, и в тринадцать лет её полудетское тело стало предметом хитроумных домогательств лорд-адмирала, а незрелые чувства были опалены страстью - страстью опасной и роковой, ибо затеянная адмиралом интрига привела его на эшафот, а девочке, которую он использовал как орудие своих честолюбивых замыслов, пришлось опасаться за свою жизнь.
Лорд-адмирал не совратил её до конца; когда он овдовел, ей было пятнадцать лет, и он рассчитывал на ней жениться. Поэтому телом Елизавета оставалась девственницей, но её невинности пришёл конец, а казнь лорда адмирала и та опасность, которую ей пришлось пережить, едва не лишили её способности испытывать нормальные человеческие чувства. В несколько дней она стала взрослым человеком - преждевременное и ужасное превращение; она лгала своим обвинителям в глаза, она подавила свои чувства и вынесла смерть человека, которого любила, не пролив ни слезинки. Благодаря своей хитрости она сумела избежать всех расставленных ей ловушек. В пятнадцать лет она познала, сколь коварны мужчины и сколь жестоки могут быть родные; королём в то время был её брат Эдуард , но Эдуард подписал бы ей смертный приговор с той же лёгкостью, с какой он отправил на казнь адмирала, который был ему роднёй по крови и другом. Елизавета спаслась, но пережитое ею потрясение было столь сильным, что четыре года после этого её мучили болезни.
Когда она наконец поправилась, ей было девятнадцать и она отчаянно хотела жить, жить полной жизнью - а для этого ей был открыт лишь один путь. Она хотела пережить свою сестру Марию и унаследовать после неё престол.
И она уже знала то, что глупенькая простушка Мария Тюдор сумела познать лишь ценой собственного счастья и преданности своего народа - в сердце государя не должно быть места любви.
Госпожа!
Елизавета медленно обернулась. В дверях стояла её фрейлина Фрэнсис Холланд. В руках она держала свечу; колеблющееся на сильном сквозняке пламя освещало её взволнованное лицо.
В чём дело? Я как раз собиралась позвонить и позвать тебя; камин почти догорел, и мне нужен свет.
Госпожа, внизу, в Большом зале ждёт сэр Вильям Сесил. Он желает видеть вас по срочному делу.
Сесил? - Тонкие брови Елизаветы удивлённо поползли вверх. Вильям Сесил был секретарём Марии Тюдор, но в то же время это был её добрый друг. В течение злосчастных последних шести лет, когда любящая старшая сестра превратилась в ревнивую государыню, видевшую в Елизавете соперницу в борьбе за трон, Сесил несколько раз тайком помогал ей советами.
Могу я его просить, госпожа?
Нет, пока я не смогу принять его подобающим образом, а не как нищенка: в нетопленной тёмной комнате!
Попроси его подождать, а сама прикажи подбросить в камин дров, принести свечей и горячего питья. И поспеши!
Двадцать минут спустя вошедший Сесил увидел Елизавету безмятежно восседающей за вышивкой в кресле с высокой спинкой у пылающего камина. Она подняла на него глаза: бледное лицо с тонкими чертами было совершенно бесстрастным.
Какой приятный сюрприз, сэр Вильям. Простите, что не смогла принять вас сразу, но я не привыкла к посетителям. Я приказала подать горячего пунша. Ехать сюда из Лондона в такую погоду совсем невесело, и вы, должно быть, продрогли до костей.
Вы очень любезны, ваше высочество.
Сесил был худощав, его волосы рано поседели; проведя едва ли не всю жизнь за письменным столом, он сутулился. Он выглядел старше своих тридцати восьми лет, с тихим, почти лишённым интонаций голосом; ничто в его внешности не говорило о том, что это один из немногих людей, ум которых позволил им сохранить свои должности как в царствование протестанта Эдуарда VI, так и при Марии, вновь ставшей ревностно насаждать католичество. Елизавета бросила взгляд на входную дверь. Она была закрыта, но принцесса знала: за ней шпионят.
Насколько я понимаю, вы приехали с ведома королевы, сэр; прежде чем мы сможем продолжить наш разговор, вы должны меня в этом заверить.
Госпожа, королева не в состоянии чем-либо ведать. Я приехал сообщить вам, что она умирает.
Умирает? Что вы сказали?
Она назначила вас своей преемницей. Я приехал известить вас об этом прямо от неё. Ваше восшествие на трон Англии, госпожа, теперь вопрос дней, а возможно, и часов. Молю Бога, чтобы ваше царствование оказалось счастливее того, что ныне подходит к концу.
Как вы безрассудны, Сесил, - медленно проговорила Елизавета. - Мне кажется, она уже умерла...
Пока ещё нет. - На мгновение тусклые глаза Сесила блеснули, и Елизавета увидела вспыхнувший в них огонь ненависти. - Но это должно случиться с минуты на минуту, и все мы ждём не дождёмся этой минуты.
Садитесь, сэр, и умерьте ваш ныл. Не забывайте: она ваша государыня и моя сестра.
Она мне не государыня, - отрезал Сесил. - Я служил ей, потому что хотел жить и не хотел гореть на костре, подобно моим друзьям. Что же до ваших с ней кровных уз, госпожа, то она забыла о них настолько, что едва не лишила вас жизни.
Елизавета улыбнулась; то была циничная улыбка, которая придала её узкому лицу плутовское выражение.
У неё были веские причины желать от меня избавиться. Если бы я была на её месте и слышала своё имя из уст всех до одного мятежников, боюсь, я бы не ограничилась одними угрозами. Ладно, налейте нам обоим пунша и расскажите мне обо всём подробнее.
Слушая рассказ Сесила о болезни Марии, о том, как она впала в кому, что предвещало близкую смерть, Елизавета размышляла о Сесиле. Почему он всегда был её заступником? Какие надежды возлагал он на её возвышение, если действовал в расчёте на него даже тогда, когда такая возможность казалась делом отдалённейшего будущего? Если она действительно хочет довериться ему, - а именно таково было её намерение, - на этот вопрос нужно получить ответ.
Расскажите мне, - задала Елизавета неожиданный вопрос, - что сейчас делается при дворе?
Все готовятся приехать сюда, как только им оседлают коней, - ответил он.
Королева мертва или, точнее, умирает - да здравствует королева! Бедняжка Мария. Да не допустит Бог, чтобы я увидела, как крысы бегут с моего корабля ещё до того, как он пошёл ко дну!
И что же мне нужно сделать, чтобы меня полюбили, Сесил? Что я такое для вас и для всех, кто сейчас мчится сюда, чтобы показаться мне на глаза? А чем была для вас я все те годы, когда вы помогали мне и делали вид, что верно служите моей сестре?
Вы были в моих глазах единственной надеждой Англии, - произнёс Сесил. - Видя, какую твёрдость вы проявили, спасая свою жизнь, я считал вас единственной правительницей, которая сможет с такой же твёрдостью спасти государство - и не только его, но и протестантскую веру. Довольно с нас королевы-папистки, которая к тому же была наполовину испанкой и вышла замуж за человека, подобного Филиппу Испанскому, против воли своего народа.
Неужели, Сесил, вы начисто лишены жалости? А что, если я покажусь вам ещё менее приятной особой, чем моя сестра, - последуете ли вы за мной туда, куда я поведу, или будете изображать преданность мне и тайком подлащиваться к кому-нибудь другому?
Сесил покачал головой:
Я бы не смог так поступить, если бы даже и захотел. Кроме вашей кузины Марии Стюарт, других наследников престола нет, а она католичка. Ваша дорога - единственная, которая не ведёт в Рим.
Боже милостивый! - сухо проговорила Елизавета. - Вот уж не думала услышать из ваших уст шутку! Что ж, мне кажется, я вижу перед собой честного человека! Дайте руку, друг мой, и поклянитесь, что будете верно служить мне. Клянитесь, что всегда будете говорить мне правду, какой бы она ни была - приятной для меня или нет, клянитесь, что ваш совет никогда не будет продиктовал страхом. Клянитесь, что из всех своих подданных и советников я смогу положиться хотя бы на одного, и его имя Вильям Сесил.
Он преклонил перед нею колени - неловко, ибо не отличался изяществом манер, - и поднёс её руку к губам. На мгновение их глаза встретились, и, хотя её пристальный взгляд, казалось, проник в самые потаённые глубины его мыслей, он не дрогнул.
Клянусь.
Да будет так, - произнесла Елизавета. - Теперь вы мой, Сесил. Я ревнивая госпожа; если вы отступите от этой клятвы, я не оставлю вас в живых. С этого дня мы будем работать вместе, вы и я.
Им было суждено работать вместе, а клятве Сесила оставаться в силе почти четыре десятка лет.
В Лондоне, где в Уайтхоллском дворце лежала при смерти королева, царившее при дворе замешательство передалось простому народу, и толпы черни, запрудившие набережную Темзы и ведущие из города дороги, провожали приветственными криками всё возраставший поток придворных, которые в надежде на милости новой королевы спешили засвидетельствовать ей своё почтение. Выражать ненависть к Марии-папистке и её супругу-испанцу Филиппу стало наконец безопасно, и вырвавшиеся из-под спуда чувства народа были так сильны, что всем жившим в Англии испанцам было рекомендовано не выходить на улицы и забаррикадироваться в своих домах на случай нападения. Католические священники и слуги королевы Марии теснились вокруг её смертного одра и беспокойно перешёптывались о том, что же их ожидает. Все знали, что новая королева будет благоволить к протестантам; никому не было ведомо, не отплатит ли она за гонения на протестантов преследованием католиков.
Немало англичан-католиков ненавидели засилье испанцев при дворе и сожалели о фанатичных преследованиях еретиков в царствование умирающей королевы; для них новое царствование обещало освобождение от испанского влияния и прекращение войны с Францией, которую обезумевшая от любви Мария начала для того, чтобы доставить удовольствие своему мужу. Не будь любовь королевы к Филиппу Испанскому столь слепой, народ, возможно, оплакивал бы её - это признавали даже люди из её ближайшего окружения.
Мария оказалась жертвой собственного фанатизма и коварства мужа. Филипп знал, как использовать в своих интересах страсть женщины. Она начала своё царствование милостиво, простив двоюродную сестру, которая была провозглашена королевой и капитулировала перед войском Марии, процарствовав девять злосчастных дней.
Возглавлявший этот мятеж герцог Нортумберлендский Джон Дадли был казнён, но остальных его родных Мария пощадила. Тем не менее, когда через шесть месяцев разразился новый мятеж, оставшиеся в живых члены семьи Дадли были заключены в Тауэр. Уязвлённая неблагодарностью тех, кого она помиловала, Мария покарала мятежников с беспощадностью, напомнившей о том, что она дочь старого короля Генриха. Джейн Грей и её супруг Гилдфорд Дадли были обезглавлены, сотни других - повешены; ожидалось, что Роберт Дадли, которому было тогда всего двадцать лет и который страстно хотел жить, также разделит их судьбу.
Он был редкостный красавец и в этом пошёл в своего отца-герцога, который славился своими успехами в атлетических состязаниях. Роберт Дадли был жгучим брюнетом со смуглой кожей и сверкающими чёрными глазами; ему было присуще ненасытное желание любой ценой возвыситься и пробиться во власть. В семнадцать лет он женился на богатой наследнице, но за год брака она ему наскучила, и как только могилы его родных поросли первой травой, он смело обратился к королеве Марии и попросил освободить его из темницы. В своём хитроумном послании он объяснял своё участие в бунте молодостью, незнанием жизни и влиянием отца и сумел затронуть в сердце Марии чувствительные струны; от природы она была мягкосердечна, и, помня собственную юность, омрачённую заточением и одиночеством, королева приказала освободить Дадли. Когда он пошёл ва-банк, появившись при дворе и заявив, что у него, как у сына изменника, нет в кармане ни гроша, королева дала ему должность и вернула некоторые из земель, принадлежавших его семье.
Дадли не ощущал к ней никакой благодарности; железное здоровье и безжалостный нрав не позволяли ему испытывать ничего, кроме презрения к усталой старой женщине, которой он наврал с три короба, а она всему поверила. Он принял её милости, постарался казаться приятным, а когда стало ясно, что королева смертельно больна, продал часть своих земель и тайком послал вырученные деньги Елизавете в Хэтфилд. Старая королева, несомненно, умирала от водянки; её истерическая убеждённость в том, что она беременна, давно уже перестала кого-либо обманывать. Ребёнком Роберт Дадли был знаком с юной принцессой Елизаветой и виделся с ней один или два раза до того, как после скандала с лордом-адмиралом она исчезла с политической сцены.
В детстве они были закадычными друзьями, и ему доводилось слышать, что она постоянно нуждается в деньгах. Она должна была стать новой королевой Англии, и Дадли надеялся, что она не забудет его помощь и отблагодарит за неё.
Этим ноябрьским утром он, едва узнав о смерти Марии, во весь опор поскакал в Хэтфилд. Уже много дней он держал на подставах свежих лошадей и, не позволяя себе заснуть, бродил по Уайтхоллскому дворцу в ожидании вести о кончине королевы Марии. Он хотел попасть к новой королеве, когда волнение и радость от вести о внезапном возвышении ещё не улеглись и можно рассчитывать на её щедроты. У него, Дадли, есть веские основания претендовать на её дружбу, только бы успеть прибыть к ней до того, как все должности будут розданы и на его долю ничего не останется. Мария умерла в шесть утра, и все придворные уже неслись верхом и в экипажах к Елизавете.
Роберт пришпорил коня и пустил его галопом; до Хэтфилда оставалось не больше двух миль. Дадли начал что-то мурлыкать себе под нос. Он был взволнован, будущее представлялось ему в самом радужном свете. Он сумел избежать последствий отцовской измены; его надоедливая жёнушка Эми осталась в Норфолке; женщина, для которой жизнь приняла такой удачный оборот - его ровесница, и ничто не препятствует ему при желании связать свою судьбу с ней. Как-то раз в царствование королевы Марии они одновременно оказались узниками Тауэра; если ему представится такая возможность, он напомнит ей об этом.
Он свернул с дороги к усадьбе Хэтфилд и осадил коня у ворот. Старый дом из красного кирпича походил та улей; из окон доносился шум, двор был заполнен лошадьми и слугами. Дадли сумел пробиться через открытую дверь в Большой зал, но застрял в наполнявшей его до отказа толпе. Елизавета сидела на стуле, стоявшем на возвышении, на котором обычно ставили главный обеденный стол; вокруг неё стояли Вильям Сесил, лорды Сассекс и Арундель, герцог Бедфордский. Пустив в ход локти и кулаки, Дадли продрался через толпу и наконец оказался в переднем ряду придворных, ожидавших, пока их представят королеве. Теперь ему удалось рассмотреть её во всех подробностях; она сидела совершенно неподвижно, прямая как стрела, на ней было платье из чёрного бархата с кулоном, усыпанным жемчужинами и алмазами, голова в ореоле рыжих волос. Дадли с удивлением отметил, насколько она похорошела. Несмотря на величественную позу, её глаза сияли счастьем, от радости с лица не сходила улыбка. После минутного колебания Дадли подошёл к самому возвышению и упал на колени.
Лорд Роберт Дадли, ваше величество! Моя жизнь и владения у ваших ног.
Он взглянул ей в лицо и понял, что она его узнала.
Добро пожаловать, лорд Роберт. Явились получить свой долг?
Это была не Мария, которая могла зайтись криком от гнева, а через минуту залиться сентиментальными слезами. Перед ним сидела уверенная в себе, невозмутимая молодая женщина, которая смотрела на него с явной иронией. Но Дадли был таким же толстокожим, как и его отец; он не покраснел и не смутился.
Королева не может быть ничьей должницей, - ответил он без промедления. - Пусть Бог дарует вам здоровье и долгую жизнь, а мне - возможность быть вам полезным.
Елизавета улыбнулась:
Мы с вами старые друзья, милорд. Было время, вы меня не забыли, и вы увидите, что я умею быть благодарной; оставайтесь в Хэтфилде, и я подыщу вам какую-нибудь должность.
Он поцеловал ей руку, отметив, как нежны её длинные пальцы, и отступил в толпу, где дождался, пока она встала и поднялась по лестнице вместе со своим секретарём и пэрами. Её походка была медленной и грациозной, она то и дело останавливалась, чтобы улыбнуться и поговорить с теми, кого ей ещё не представили, и Дадли следил за ней с восхищением. Это была умная женщина и хорошая актриса, она знала, как нравиться людям, не теряя при этом достоинства - редкий дар, которым её сестра Мария не отличалась.
Когда Елизавета остановилась на верхней ступеньке лестницы и помахала рукой, раздались возгласы: «Боже, храни королеву!» Затем она вместе с советниками исчезла в своих покоях. Дадли отлучился, чтобы утолить голод и жажду, и вернулся в Большой зал. Поздно вечером, когда он уже начал думать, что напрасно ждёт и Елизавета о нём забыла, паж пригласил его к королеве на личную аудиенцию.
28 ноября по узким кривым улочкам английской столицы медленно двигалась пышная процессия. Она начала движение у Криплгейта, где одетая в амазонку из пурпурного бархата королева оставила свою алую с золотом колесницу и села на великолепного белого коня. Подобрать чистопородного коня такой масти стоило немалых трудов; на нём было алое седло, уздечка украшена чеканным золотом и самоцветами, стоившими сотни фунтов. Коня с поклоном вывел вперёд новоназначенный конюший королевы. Он был одет в красное с серебром, на рукоятке шпаги и камзоле сверкали рубины. Это был вульгарный, кричащий костюм; так одеваться мог только Роберт Дадли. Только Дадли мог потратить столько денег на лошадиную сбрую и уговорить Елизавету оставить неуклюжую колесницу у Криплгейта и въехать в Лондон верхом, заявив ей, что она слишком хорошая наездница для того, чтобы прятаться в носилках. Советники королевы возражали против этого новшества, которое пришлось им не по вкусу - как, впрочем, и сам Дадли: получив свою новую должность, он повсюду лез с советами и вмешивался не в свои дела.
Королева, однако, была к нему весьма щедра; должность приносила ему значительный доход и вынуждала всё время быть рядом с Елизаветой. Она при всех поблагодарила его за блестящую идею, отмела все возражения и поручила организацию своего въезда в столицу Роберту Дадли.
Он подал ей руку, чтобы помочь сесть на коня, и она ему улыбнулась. Затем королева подала знак, и процессия тронулась.
Лорд-мэр Лондона, правитель столицы, которая представляла собой не только важный центр английской торговли, но и независимое государство в государстве, ехал во главе процессии вместе с рыцарем ордена Подвязки, главой королевских герольдов, который держал в руке сверкающий золотой скипетр. За ним следовали наёмные стражники в мундирах из красной парчи с золочёными топориками в руках, а следом выступали королевские герольды; на груди и спине их красных, обшитых серебряным позументом кафтанов был вышит золотом вензель новой королевы - Е. R.
Граф Пемброкский шёл пешком и нёс церемониальный меч королевы в ножнах, сплошь усыпанных жемчужинами. Между ним и медленно выступающим конём королевы оставался промежуток. Дадли наблюдал за ней сзади; её узкая фигура по-прежнему была прямой и стройной. В последние дни, проведённые в Хэтфилде, он видел её весёлой и спокойной; она отвела ему роль забавного компаньона для часов досуга, и хотя Дадли был гостем её ужинов для узкого круга и играл с ней в карты по вечерам, ему не было известно ничего о той Елизавете, которая проводила целые часы, запёршись с советниками. Он уже понял, что у неё два лица, и то из них, которое видят он и ему подобные титулованные шуты, забавлявшие королеву своей лестью, нисколько не похоже на тот образ, который она являет за закрытыми дверями Сесилу. Дадли внимательно следил за тем, как она поворачивается в седле, чтобы взмахом руки приветствовать толпу, сквозь которую продиралась процессия. А что это была за толпа! Ему ещё не приходилось видеть, чтобы улицы Лондона были так забиты народом и так обильно разукрашены. Гобелены, драпировки, яркие флаги свисали из всех окон и были натянуты поперёк узких улочек между покосившимися домами. Сточные канавы, обычно забитые помоями и зловоннейшими отбросами, были вычищены, и всё же смрад стоял такой, что Елизавета, как с улыбкой заметил Дадли, время от времени подносила к ноздрям коробочку с благовониями, которая висела у неё на поясе.
На каждом углу играли музыканты, их мелодии смешивались с приветственными криками толпы, которые становились всё громче. Процессии часто приходилось останавливаться, чтобы королева могла принять цветы или подарки и выслушать длинные приветственные речи; несколько раз она задерживалась, чтобы поговорить с простыми лондонцами, которые преграждали путь её коню. Чем дальше углублялась процессия внутрь Лондона, тем отчётливее слышались приветственные пушечные залпы, а когда всадники повернули за угол и выехали на Марк-Лейн, Елизавета подняла руку, и процессия остановилась. Впереди вздымались серые стены и башни Тауэра, который стоял посреди неподвижных вод глубокого рва подобно огромному драгоценному камню в сверкающей оправе. Подъёмный мост крепости был опущен; Елизавете был виден комендант Тауэра, который стоял вместе с йоменами-охранниками в алых кафтанах с кирасами; в тени массивных копий внизу решётки ворот они казались яркими цветными пятнами. Никогда ещё Тауэр не выглядел таким величественным и отчуждённым; было странно, что место ужаса и пыток так красиво, - впрочем, это была не только темница, но и дворец. Но Елизавета считала его темницей, и ею Тауэр для неё останется навсегда.
На неё нахлынули воспоминания, и на несколько мгновений великолепная кавалькада, сверкающие ливреи, сановники, приветственные крики и трубные звуки куда-то исчезли. В её ушах отдавались лишь размеренные залпы: это пушки Тауэра салютовали новой королеве. А ведь не прошло и шести лет, как она прибыла сюда через другие ворота по воде, под проливным дождём; тогда столица, ныне бьющая через край жизнью, затихла - её жители молились в церквах. Она прошла через Калитку Изменников узницей, арестованной по приказу своей сестры Марии - та подозревала её в заговоре, целью которого было цареубийство; тогда ни она, ни те, кто её сопровождал, вроде Сассекса или Арунделя, которые теперь следуют за ней в процессии, - никто не верил, что она выйдет из Тауэра живой.
Остановка затягивалась, свидетели торжества Елизаветы начали осознавать её значимость, и когда она обернулась, то увидела, что её воспоминания отразились на их лицах. Её голос звучал отчётливо и благодаря своему низкому тембру разносился далеко; слова королевы услышали не только Дадли, Пемброк и Сассекс:
Иные из тех, кто был государями этой страны, становились узниками в этой крепости; я, бывшая узницей этой крепости, ныне государыня этой страны. Их падение было делом Божьего правосудия - моё возвышение свершилось благодаря Его милосердию. Клянусь перед Богом быть столь же милосердной к своему народу, сколь Бог был милосерден ко мне.
Стоило последним всадникам процессии въехать в ворота Тауэра и королеве исчезнуть из виду, как толпа разбилась на группы, окружившие музыкантов; все принялись петь и плясать вокруг уличных водоводов, в которых вместо воды тек эль. Всю ночь напролёт лондонцы праздновали коронацию новой королевы, теснясь вокруг пылавших на улицах костров; кто-то нашёл человека, который держал дрессированного медведя, и вытащил бедного зверя на улицу, чтобы тот танцевал перед толпой. То было грубое, пьяное празднество; там и сям вспыхивали драки - это обнаруживался какой-нибудь сторонник покойной королевы Марии. Великолепные занавеси и драпировки поспешили подтянуть в окна, подальше от жадных рук, а мародёры набросились на панно и гирлянды, разорвали их в клочки и растащили по домам. К рассвету следующего дня Лондон походил на поле брани - повсюду на улицах валялись пьяные или изувеченные в драках люди, однако произошедшие бесчинства свидетельствовали о большой популярности новой королевы. Слова, которые она произнесла, въезжая в Тауэр, передавали из уст в уста, всячески приукрашая; те, кто обратились к королеве и удостоились ответа, многие дни зарабатывали себе на жизнь, рассказывая за плату всем желающим, как это было. Лондонцы были столь же сентиментальны, сколь грубы; то, что нашлась государыня, которая, судя по всему, проявила к ним интерес, воодушевило их и сделало образцовыми верноподданными. Она составляла резкую противоположность своей сестре Марии - та проезжала сквозь толпу, не улыбаясь и ни единым жестом не показывая, что ей известно об её существовании.
Узнав обо всём от осведомителей, Сесил обрадовался. Примкнув к Елизавете, он пошёл ва-банк. Как он уже сказал ей, кроме неё претендовать на английский престол могла лишь католичка Мария Стюарт , которая, к счастью, находилась во Франции и была супругой наследника французского престола; и всё же осторожность не позволяла Сесилу почивать на лаврах.
Тем не менее реальность превзошла все его ожидания. Елизавета обладала даром трогать людские сердца - ему это казалось странным, ибо, познакомившись с ней поближе, он обнаружил, что она холодна и скрытна. Она преподносила ему всё новые загадки, и ему это не нравилось, ибо Сесил предпочитал классифицировать своих ближних; однако для Елизаветы он никак не мог подыскать подходящего ярлыка. Она целыми вечерами играла в карты и танцевала, нацепив на себя драгоценности Марии, но при этом многие часы просиживала на заседаниях совета, ни разу не пожаловавшись на усталость и не попытавшись отложить то, что поскучнее, на следующий день. Внешне казалось, что она действует по наитию, но, поработав с ней рядом, Сесил понял, что она взвешивает каждое слово, прежде чем его произнести. Она могла выражаться на редкость просто и ясно, как перед въездом в Тауэр, но если нужно, была способна говорить и писать загадками. Сесил знал, что она умна, умнее, чем он предполагал, считал, что она падка на лесть - и всё же сомневался, обманывается ли она на этот счёт. Он строил множество догадок относительно Елизаветы, которой решил служить до конца своих дней, но ему было трудно сказать о ней что-либо с уверенностью.
На следующее утро после въезда королевы в Лондон один из её пажей вошёл в покои, отведённые Сесилу в главном здании Тауэра, с вестью о том, что королева желает видеть своего секретаря.
Его впустили в её кабинет - крохотную, скудно обставленную комнату с узким окошком, которое давало очень тусклый свет. Елизавета сидела за столом, на котором горели две свечи, и писала. На ней был свободный пеньюар из синего бархата, волосы схвачены сеткой из золотых нитей, унизанных жемчужинами. Принимать его и других членов совета в пеньюаре уже вошло у неё в привычку. Сесил про себя думал, что незамужней женщине не подобает такая небрежность, но не решался ей это сказать. С каждым днём он обнаруживал, что не решается сказать Елизавете всё больше.
Доброе утро, господин Сесил, - если только вы в силах различить в этой крысиной норе, утро сейчас или полночь! Иногда мне кажется, мои предки были кошками, если они могли читать и писать в таком сумраке.
У вашего величества устают глаза? - Сесил знал, что Елизавета близорука и страдает головными болями. Впрочем, нельзя было отрицать, что комната освещена недостаточно.
Я устала от этого места. Здесь чертовски холодно и сыро. Не могу дождаться, когда мне будет можно переехать на Уайтхолл; в Тауэре можно держать лишь преступников. Присядьте на эту табуретку, Сесил. Я просматривала государственные расходы, и мне требуется ваше мнение на сей счёт. Если Тауэр мрачен, то моя казна являет собой ещё более мрачное зрелище. Оказывается, я унаследовала обанкротившийся престол - взгляните-ка на эти цифры. - Он углубился в чтение, а она продолжила: - Торговля совсем захирела; война, которую моя сестра вела с Францией, поглотила все свободные средства до последнего пенни и к тому же оторвала людей от их занятий. Наша монета настолько обесценилась, что за границей над ней смеются. Таково мнение сэра Томаса Грешема, и я его разделяю целиком и полностью.
И как же он предлагает поступить, госпожа? - Грешем был гениальным финансистом; Елизавета выбрала себе министра финансов не менее удачно, чем конюшего. Странно, что у неё было столько общего с обоими этими людьми, которые не имели ничего общего между собой.
Изъять из обращения обесцененную монету и восстановить прежний курс. Сократить расходы и расширить торговлю. До тех пор, пока это возымеет действие, он берётся съездить во Фландрию и взять для нас деньги в долг. Чтобы получить кредит, он расскажет там какую-то историю, которую сочинил, и не сомневается, что она поможет ему добиться своего.
Я составлю об этом билль и представлю его парламенту. Вы знаете, госпожа, я мало что смыслю в финансах и готов во всём согласиться с Грешемом.
Если вы несведущи в финансах, Сесил, - сказала Елизавета, переворачивая страницу, - значит, учитесь. Деньги - это кровь государства. Без них нельзя пи подкупать, ни вести войну, ни держаться с другими на равных. Сразу же после коронации все расходы на содержание двора должны быть урезаны.
Могу ли я предложить, госпожа, начать ещё до коронации и сократить ассигнования на погребение покойной королевы? - Сесил едва сдерживался, слушая, как она проповедует экономию и велит ему учиться бухгалтерии, как какому-то счетоводу, и в то же время предлагает расходовать деньги без счета на похороны Марии Тюдор. - Сорок тысяч фунтов - чрезмерная сумма, даже для монарха, - добавил он.
Елизавета подняла на него глаза и положила перо:
Вы хотите, чтобы я похоронила родную сестру как нищенку? Не знаю, чрезмерна эта сумма или нет, но я готова потратить её на это погребение. Избавьте меня от ваших придирок, мне надоело смотреть, как вы и остальные трясётесь над каждым пенни.
Но если вы готовы ограничить собственные расходы, зачем тратить столько денег на эти... эти похороны? Ради Бога, госпожа, по крайней мере, позвольте мне вас понять - почему королева Мария должна покоиться в более роскошной могиле, чем любой другой государь, правивший в Англии?
Потому, - медленно отчеканила Елизавета, - потому, друг мой, что она воздержалась от того, чтобы отправить в могилу меня. Я не желаю больше препираться относительно цены на её гроб. Она была дочерью моего отца и при жизни - королевой нашего государства; таковой она пребудет и после смерти.
Мария пощадила её; такова была причина, по которой, как сказала Елизавета Сесилу, она устроила ей похороны, обошедшиеся почти во столько же, во сколько её собственная коронация. Но было и ещё кое-что, о чём она умолчала. Елизавета хорошо помнила своё детство в Хэтфилде и сестру, которая была к ней добра и приходила успокаивать, когда её мучили кошмары. Расшитая жемчугом шапочка и детское платьице из синей парчи - она до сих пор хранила эти свидетельства щедрости Марии, которая опустошила свой тощий кошелёк, чтобы купить маленькой Елизавете дорогой подарок. Нет, Сесил вряд ли это поймёт; она и сама понимала это с трудом. Елизавета знала лишь одно - теперь её очередь сделать Марии подарок и похоронить её со всей пышностью и блеском римской католической церкви, которые она так любила, а Сесил и остальные могут отправляться ко всем чертям.
Секретарю Елизаветы было непонятно, что происходит в её душе, она казалась совершенно спокойной и хмурилась, глядя на какие-то бумаги перед собой, по-видимому, совершенно забыв о споре относительно похорон Марии. И всё же он понимал, что она вновь сумела навязать ему свою волю.
Какой вы молчаливый, Сесил, - внезапно проговорила Елизавета. - Послушайте, у меня тоже могут быть человеческие чувства; не осуждайте меня за это.
Боже упаси! - Он кашлянул и переменил тему. Женские чары оказали на него куда больше влияния, чем он предполагал, и это его смутило.
Со мной виделся герцог де Фериа, госпожа. Он снова просит вашей аудиенции. Желает получить заверения в вашей неизменной дружбе с его государем, королём Филиппом.
Не беспокойтесь, он их получит. Более того, Филипп получит их от меня лично. Прошлой ночью я набросала черновик письма своему дорогому зятю - вот, прочтите.
Это было длинное письмо, написанное её каллиграфическим почерком. Сесилу приходилось читать другие, не менее длинные письма Елизаветы, смысл которых она умела скрыть настолько, что понять, что она имеет в виду на самом деле, становилось абсолютно невозможно. Однако это письмо поражало своей ясностью.
Она начала с того, что рассказала Филиппу о своём возвышении, попутно напоминая, что обязана ему за заступничество перед покойной королевой. Как писала Елизавета, Филипп не единожды защищал её от напраслин, которые возводили на неё враги. Последний абзац Сесил прочёл вслух:
- «Единственная причина, заставившая меня написать Вашему Величеству, - желание показать Вам, что я не забываю, как безгранично добры Вы ко мне были... Я сумею доказать свою благодарность Вашему Величеству, сделав всё, что она мне подсказывает, для Вашей пользы и в Ваших интересах...»
Сесил положил письмо и взглянул на королеву. Она улыбнулась ему через стол - та же кривая усмешка, от которой Дадли всегда делалось не по себе.
Слова, - сказала Елизавета, - слова, и не более; они ничего не стоят, а значат ещё меньше. Я не желаю, чтобы он понял, что его влияние в Англии умерло вместе с моей сестрой. Когда это до него наконец дойдёт, я уже буду настолько сильна, что смогу ему сказать: если ты был так глуп, что поверил этому письму, можешь его съесть - все десять страниц!
Если вы ему обязаны всем, о чём здесь упоминаете, неудивительно, что он ожидает продолжения союза с нами.
Я ничем ему не обязана. Если бы Мария сумела родить ребёнка, мне пришёл бы конец. Он знал: ей долго не прожить, а я унаследую престол. А теперь, друг мой, ему приходится поддерживать меня, желает он того или нет!
Хотя ему известно, что вы протестантка, госпожа? Я был свидетелем того, каково его религиозное рвение - небеса Англии почернели от дыма, когда он сжигал ни в чём не повинных мужчин и женщин. Для чего ему поддерживать вас, если он знает: вы противостоите всему, что ему дорого?
Елизавета встала и начала ходить по комнате взад и вперёд; её длинный пеньюар волочился по полу, а пальцы одной руки сжимались и разжимались - этот жест всегда говорил о том, что она встревожена или взволнованна.
Религиозное рвение для этого человека - не более чем политика. Его бога зовут Филипп, и он молится этому богу в храме, который воздвиг себе сам! Не стоит делать далеко идущие выводы из того, что он сжёг несколько чудаков и пуритан - это ошибка не его, а моей сестры!
Госпожа, неужели вы считаете епископа Латимера и архиепископа Кранмера не более чем чудаками? - Одержимость горестной судьбой погибших при Марии мучеников-протестантов, чью участь он мог разделить, была слабым местом Сесила. Сейчас это задело Елизавету за живое; она обернулась и на мгновение дала волю своему темпераменту:
Не втягивайте меня в ваши религиозные дрязги! Латимер, Ридли, Кранмер и прочие - какая, чёрт побери, разница, как мне их называть? Эти трое святош жгли католиков, а затем настал и их черёд! Вот и всё, что я желаю об этом знать. Запомните, Сесил, раз и навсегда: я не фанатичка - мне всё равно, как молятся люди и молятся ли они вообще. Это дело их совести, и я вмешиваюсь лишь тогда, когда под угрозой оказывается мой трон. Я протестантка потому, что народ хочет, чтобы я исповедовала эту веру; а кроме того, католики считают меня незаконнорождённой, безо всяких прав на престол. Надеюсь, теперь вы меня поняли и позволите мне закончить разговор об испанских делах, которые действительно заслуживают внимания, вместо того чтобы перебивать вопросами, не стоящими выеденного яйца?
От полученного выговора кровь бросилась Сесилу в лицо, но он промолчал; ему было нечего сказать. В напряжённом молчании он ждал, пока злобные огоньки в глазах королевы не потухли и она снова не принялась ходить взад и вперёд по кабинету.
Филипп женился на моей сестре лишь по одной причине: чтобы предотвратить её брак с французом, который повлёк бы за собой объединение Англии и Франции. Как-то вы говорили, - она внезапно указала на него рукой, - что помимо меня на английский престол имеет право одна-единственная женщина - моя кузина Мария Стюарт. Католичка - да-да, Сесил, я вижу, как это слово готово слететь с ваших губ. А кроме того, наполовину француженка по крови и супруга французского дофина. Если Бог, судьба или мои враги покончат со мной, то Мария, нынешняя королева Шотландии, а в будущем королева Франции, становится единственной претенденткой на мой трон. Попомните мои слова, если это произойдёт, вам не сносить головы! - Елизавета рассмеялась и саркастически посоветовала своему секретарю: - Так что заботьтесь обо мне хорошенько, Сесил, как о себе самом... простите, теперь уже я отвлеклась. Так вот, союз между Англией, Францией и Шотландией, объединёнными под властью одной женщины, означал бы конец власти Филиппа в Европе. Для начала ему пришлось бы распрощаться с Нидерландами, на которые давно зарится Франция. Против него сложился бы такой могучий союз, что вся мощь Испании не смогла бы ему противостоять, если бы английская и французская армии хлынули через её границы. Вот почему я могу сказать вам, что он на моей стороне - это в его интересах, и другого выхода у него нет. Я отправлю Филиппу это письмо - нам оно не повредит, а видимый знак его дружбы с нами заставит Францию немного повременить. Мы, Франция и Испания - это треугольник, Сесил, и слава Богу, в этом треугольнике Англия, как мне кажется, является основанием, на котором держится равновесие двух остальных сторон.
Елизавета пробыла английской королевой всего лишь двенадцать дней, однако такое понимание сильных и слабых сторон своего положения сделало бы честь и искушённому государственному мужу. Это было настолько удивительно, что Сесил простил ей шпильку о том, что её преемница его казнит. Но был один вопрос, который она упустила из виду или, скорее, которого намеренно не коснулась.
Если, как вы говорите, Филипп женился на вашей сестре, чтобы не дать ей выйти замуж за француза, за кого он позволит выйти замуж вам, госпожа?
У него есть много родственников, - холодно ответила Елизавета. - Он может даже предложить самого себя; а я обдумаю все предложения по очереди.
Но никого не выберете?
Увидев на лице своего секретаря, обычно серьёзном и бесстрастном, удивление и тревогу, она рассмеялась:
Сесил, Сесил, плохо же вы меня знаете, если спрашиваете об этом! Неужели вы думаете, я отдам себя этой испанской треске и умру от пренебрежения, подобно моей сестре; неужели вы полагаете, я буду настолько глупа, что выйду за одного из его кузенов и навлеку на себя войну, которую мне в этом случае объявит Франция под предлогом защиты интересов Марии Стюарт? Послушайте, Сесил, я отлично понимаю свою ценность на брачном рынке и постараюсь извлечь из неё максимум пользы: испанские женихи, французские женихи, католики, протестанты - пусть явятся все, а я время от времени буду пугать их каким-нибудь англичанином.
Но когда вы всё же сделаете свой выбор? - настаивал Сесил. - А вы должны его сделать, госпожа, - ради вашей собственной безопасности и безопасности государства вы должны будете на что-то решиться.
Если я захочу выйти за англичанина, то нет, - резко оборвала его Елизавета. - Это, может быть, решит будущее. Но иностранцы мне не по нутру.
И какой же англичанин мог бы надеяться получить вашу руку? - Спокойный тон, которым Сесил задал королеве вопрос, не выдал его тревоги. С момента восшествия Елизаветы на престол он, Арундель, Сассекс и другие лорды были озабочены вопросом о её браке. Они так увлеклись, рассматривая возможные последствия союза с тем или иным иностранным царствующим домом, что возможность того, что королева изберёт себе в супруги англичанина, просто не пришла никому из них в голову. А между тем тот, кто женится на Елизавете, автоматически станет самым влиятельным человеком в государстве, и жизнь Сесила, жизни его друзей и советников будут зависеть от него не меньше, чем сейчас от самой Елизаветы. Англичанин! Сердце Сесила подпрыгнуло, как раненый олень, при мысли, что королева уже выбрала себе жениха или давно сговорилась о браке с тайным любовником. Он может поклясться именем Божьим, что ему приходит на ум лишь один человек, который в последние двенадцать дней получал от неё постоянные знаки внимания. Дадли, Роберт Дадли! Этот хитрый, своекорыстный выскочка!
Вы уже кого-то выбрали, госпожа?
Успокойтесь, друг мой. У меня нет от вас тайн. Я не вижу вокруг никого, кто бы вызвал у меня желание выйти замуж. Сомневаюсь, что такой мужчина вообще существует. Вместо «когда» я выйду замуж - будет ближе к истине сказать: «если».
На этом аудиенция закончилась; Сесил поцеловал королеве руку и поспешил в свои покои, где его ждала неотложная работа. Покончив с ней, он распорядился установить за Робертом Дадли надзор и ежедневно сообщать, где и когда тот встречался с королевой и сколько длились эти встречи.
Посол Филиппа Испанского в Англии был весьма ловким дипломатом. Испанский идальго дон Хосе Мария Хесус де Кордова, герцог де Фериа был одним из красивейших и честолюбивейших людей среди тех, кто приехал в Англию в свите мужа Марии Тюдор. Он сочетал присущие его народу мужество и любезность с приятным остроумием и пытливым умом - в этом состояло его отличие от большинства придворных Филиппа, которые своей чопорностью и высокомерием вызывали у всех в Англии отвращение. Он влюбился в красивейшую из придворных дам английской королевы, Джейн Дормер, и женился на ней. Таким образом он связал себя с Англией; благодаря этому он получил должность посла и сохранил её и после восшествия Елизаветы на престол.
Он получил у королевы длительную аудиенцию, во время которой она отзывалась о Филиппе в самых лестных выражениях и обещала сохранить дружбу с Испанией на вечные времена. Как впоследствии писал де Фериа своему государю, Елизавета так старалась быть с ним любезной, что эта любезность лишь усугубила его опасения относительно её подлинных намерений. Это была на удивление трезвая оценка; он испытал на себе всё воздействие личного обаяния и ораторского искусства Елизаветы, и всё же её искренность внушала ему сомнения. Елизавете не удалось одурачить испанского посла, но сам испанский король, по-видимому, не сумел устоять перед её чарами. Де Фериа не на шутку встревожился, когда король в одном из посланий упомянул о полученном от Елизаветы дружеском письме, в котором она выражала ему свою признательность и благодарила за оказанные в прошлом услуги; в ответном письме он умолял Филиппа не придавать большого значения каким бы то ни было словам английской королевы, ибо он уверен: Елизавета лжёт. Всё будет зависеть от того, какого мужа она себе изберёт, а пока что всё зависит от первых законов, которые она издаст после своей коронации.
Впрочем, был момент, когда казалось, что эта коронация вообще вряд ли состоится. Католические епископы, чувствуя, что новое царствование чревато возрождением протестантской веры, отказались совершить этот обряд. Затем - неизвестно, как этого удалось добиться: подкупом, угрозами или надеждой на будущий компромисс, - епископ Карлейльский согласился короновать Елизавету. Это была первая попытка духовенства воспротивиться королеве, и она потерпела неудачу. 15 января она была коронована в Вестминстерском аббатстве с пышностью и торжественностью, которых не постыдился бы и папа римский, а десять дней спустя впервые открыла парламент. Предостережения де Фериа наконец подтвердились. В тот день он наблюдал за происходящим и потом, сидя в своём кабинете в испанском посольстве, написал королю Филиппу горькое письмо, содержавшее подробный рассказ о вероломстве новой английской королевы. По пути в парламент навстречу ей вышла процессия монахов Вестминстерского аббатства во главе с аббатом и со свечами в руках. Елизавета остановила свою карету и велела им убираться прочь с дороги; мне не нужны факельщики, громко заявила она, я и так всё отлично вижу...
Сцена у входа в парламент была лишь предвестием того, что произошло внутри.
Свояченица короля Филиппа, которая на словах души не чаяла в своём зяте и навязывалась в друзья католической Испании, провозгласила себя верховным правителем английской церкви - эвфемизм, который обманывал лишь тех, кто очень крепко зажмуривал глаза, чтобы не видеть истины; то было притязание, столь же еретическое, как и титул её отца в Законе о главенстве короля над церковью, стоившем жизни стольким дворянам. Елизавета уничтожила католическую реставрацию, которую вела её сестра, установив такую форму богослужения, которая сочетала в себе наихудшие черты протестантизма, и в то же время коварно удалила из официального требника все наиболее оскорбительные выпады в адрес папы римского.
Епископы, которые пытались предотвратить коронацию Елизаветы, расплачивались теперь за своё неповиновение тюремным заключением. Вместо того чтобы подняться на защиту своих священнослужителей, английские простолюдины одобрили этот вопиющий акт произвола, чем ещё раз подтвердили, насколько этот народ закоснел в ереси.
По мнению де Фериа, в душе новой английской королевы не было никакой веры; она обрушилась на католичество хладнокровно, руководствуясь соображениями целесообразности, и её действия нельзя было оправдать даже личными убеждениями. Она публично отреклась от монахов и их свечей, но в то же время зажигала свечи в своей молельне, он видел это собственными глазами.
Испанский посол умолял короля Филиппа опасаться этой женщины; кроме того, он напомнил своему государю, что она окружила себя мужчинами наихудшей репутации и к тому же нетвёрдыми в вере; все они поголовно еретики: богатства, полученные после упразднения монастырей при Генрихе VIII, настолько вскружили им голову, что они готовы пожертвовать спасением своей души, лишь бы воспрепятствовать возвращению церкви её земель.
Кроме того, язвительно писал де Фериа Филиппу, ходят слухи, что по части нравов королева Елизавета пошла в мать. Всё время, свободное от коварных козней, имеющих целью уничтожение Божьей церкви, она проводит в обществе одного из своих царедворцев - некоего лорда Роберта Дадли, конюшего. За прошедшие со дня её воцарения недели предпочтение, которое она оказывает ему, стало насколько очевидным, а её отношения с ним настолько вызывающе фамильярными, что его почти наверняка можно считать её любовником.